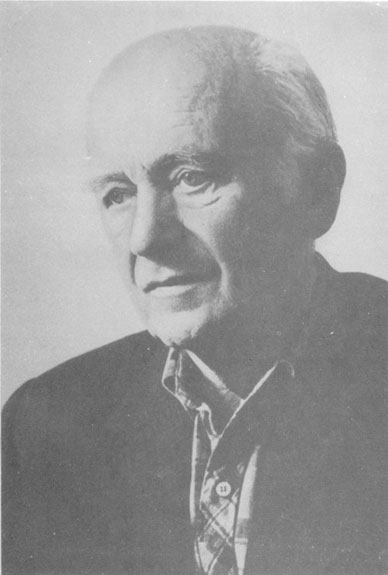

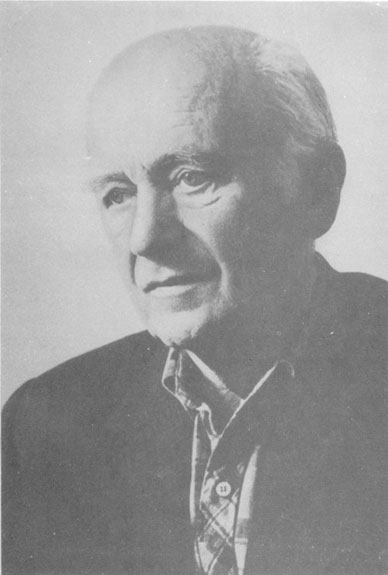
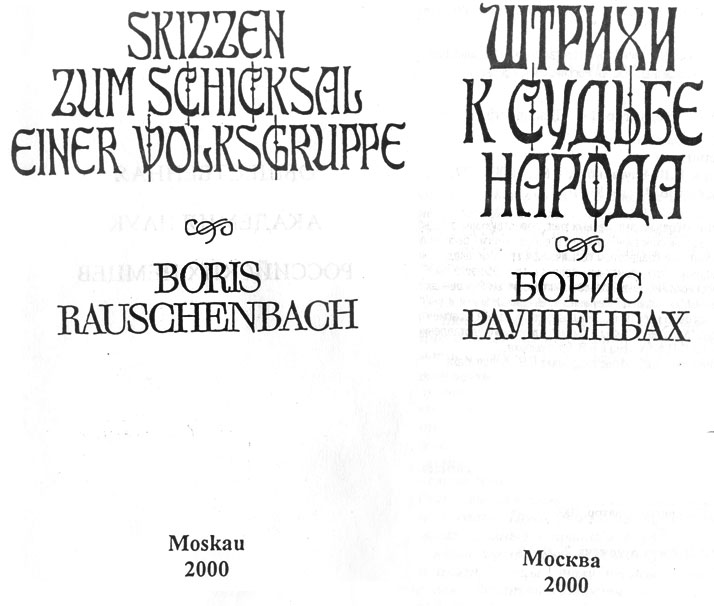
Э.Г. Бернгардт
Академик Б.В. Раушенбах. — М., 2000. — 270 с, илл. — (Штрихи к судьбе народа. Кн. II).
Перед вами вторая из задуманных книг, повествующих о судьбах российских немцев с их собственных слов. В основе книги — беседы автора с известным ученым и создателем космической техники, академиком Российской Академии наук, почетным президентом Общественной Академии наук российских немцев Борисом Викторовичем Раушенбахом и его женой — Верой Михайловной Раушенбах. В приложениях к книге представлены некоторые работы Б.В. Раушенбаха, а также фрагменты книги Я. Голованова "Королев: Факты и мифы", дающие представление о взаимоотношениях С.П. Королева и Б.В. Раушенбаха.
Книга приурочена к 85-летию академика Б.В. Раушенбаха.
Автор — многолетний активист движения российских немцев за национальное возрождение.
ISBN 5-93227-003-9
© Общественная Академия наук российских немцев, 2000
© Э.Г. Бернгардт, автор, 2000
© Р.Р. Вейлерт, художник, 2000
Это авторский вариант. Незначительно, но он всё же отличается от печатного — Хл.
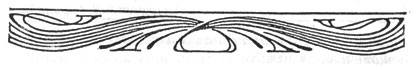
| «Это не дороги, которые мы выбираем,
это нечто, сидящее в нас, делает нас такими.» О. Генри «Дороги, которые мы выбираем» |
Книга об академике Раушенбахе задумывалась в форме биографической повести. Канву сюжета, подобно кольцам на срезе дерева, должны были составить несколько «ключевых» дней из жизни Бориса Викторовича.
Но оказалось, что книга о нем («Постскриптум») уже практически подготовлена к печати. И Борис Викторович на просьбу издателя принять участие в создании книги ответил: «Согласен участвовать в работе над книгой о судьбе российских немцев в рамках серии «Штрихи к судьбе народа»...». В силу этого автор не считал своей целью подробное жизнеописание академика Раушенбаха, уповая на то, что эта задача решена в «Постскриптуме». На первое место вышел «немецкий аспект»...
В конце XIX века, следуя замыслу Александра III, властелина «одной шестой земли с названьем кратким Русь», вышли первые тома Русского Биографического словаря. Примерно 1/6 часть его персонажей, вписавших славные страницы в русскую историю, имели немецкие фамилии. Это отражало свершившийся факт: немцы стали неотемлимой частью российской действительности. И потому естественно, что «тень люциферова крыла», накрывшая Россию в XX столетии, наложила свою дьявольскую печать и на их судьбу.
Сначала Узаконения царского правительства от 2 февраля и 13 декабря 1915 года и 6 февраля 1917 года вычленили их из верноподданных Его Величества в «неприятельских состоящих в русском подданстве германских выходцев». Затем сталинский геноцид и антинемецкая пропаганда его наследников спрессовали их в отделный этнос. Почему? Зачем? Что проку от этих вопросов...
Хороший газон, как известно, стригут 300 лет. Человек — не травинка, но не для него ли, уникальной, неповторимой личности, каждый народ создает традиции, хранит свои обычаи? Они играют роль благодатной почвы для развития лучших качеств личности. Славная история собственного народа — не самая ли надежная опора в жизни?!
Увы, долгие годы российские немцы были лишены своего культурно-исторического наследия. И только в последнее время, наконец, вышел целый ряд книг по истории российских немцев. Можно считать, что в общих чертах портрет судьбы нашего народа уже написан. Написан в основном мрачными красками. Иначе не могло и быть — ХХ век пронесся над нами смерчем геноцида.
Но тем, кто уцелел, их детям и внукам жизнь, хочется верить, дарована для счастья и созидания. А счастье нельзя построить на одних трагических воспоминаниях. Нужны светлые тона, яркие краски. Все это есть в нашей истории. Реальность, созданная волей и энергией лучших представителей нашего народа, дает возможность дополнить описание нашей судьбы жизнеутверждающими штрихами.
Основу 1-ой книги серии «Штрихи к судьбе народа» составили биографии российских немцев, сумевших, несмотря ни на что, реализовать свой внутрунний потенциал. Это — один из корифеев современной гидрологии Евгений Пиннекер, епископы Католической и Лютеранской церквей Иосиф Верт и Зигфрид Шпрингер, выдающийся атлет ХХ столетия Давид Ригерт, представитель Президента России по Алтайскому краю Владимир Райфикешт. Их яркая индивидуальность раскрылась благодаря тому, что они сохранили в себе лучшие черты своего народа — энергию, волю, чувство юмора, романтизм... Знакомство с ними дает возможность ощутить, что достойное прошлое немцев России — это не миф, что у достижений многочисленных немецких персонажей Русского Биографического словаря был общий этнический фундамент.
Открывший серию почетный член Германского геологического общества Евгений Пиннекер является основоположником современного взгляда на фундаментальные проблемы гидрологии. Академик Российской Академии наук Борис Раушенбах — один из создателей ракетно-космической техники. Когда встречаешь подобного человека, невозможно по достоинству оценить его с профессиональной точки зрения. Это и понятно. Стоя внизу, трудно точно определить высоту небоскреба. Зато по силам оценить прочность его фундамента.
Поражает масштаб личности, ее несгибаемый дух, мощь интеллекта, почти физическое ощущение ее внутренней гармонии. Понимаешь, что попытки найти «рубцы» от ударов судьбы бесполезны. Такая Личность — это совершенное творение Природы, а жизнь — всего лишь печь Мастера для обжига его шедевра. Становится очевидным, что если бы, скажем, Давид Ригерт не стал штангистом, он добился бы выдающихся результатов в другой сфере. И деятельность Бориса Раушенбаха — лучшее тому подтверждение. Проблемы горения, управление космическими аппаратами, теология, иконопись — всюду опережающий время результат.
Впрочем, великий О. Генри, один из любимых писателей Бориса Викторовича, уже давно показал, что дело не в том, какие «дороги мы выбираем», а в том, что мы творим на этих дорогах.
Эдуард Бернгардт
Эдуард Бернгардт: Борис Викторович, для начала хотел бы задать Вам вопрос, который я уже задавал католическому епископу Верту. Тем более что вижу у Вас на столе книгу Владимира Соловьева, автора работы "Русская идея", где проводится мысль, что функция, возложенная Богом на ту или другую нацию в этой жизни, — это и есть ее истинная национальная идея.
Вопрос заключается в следующем: если это так, то какую миссию и насколько успешно реализовали российские немцы?
Епископ Верт, если кратко сформулировать, ответил так: "Кто-то должен страдать за все то зло, что совершается в мире. Вот российские немцы и осуществляли эту благородную миссию". А лютеранский епископ Шпрингер, когда это прочитал, сказал, что ответил бы по-другому: "На самом деле мы, российские немцы, не выполнили задачу, которую на нас возлагали, потому что нас приглашали сюда, чтобы повлиять на жизнь этого государства. Но мы самоизолировались, жили сами для себя. Поэтому Господь и сделал то, что сделал". Вот такие две точки зрения.
Борис Викторович Раушенбах: Они, на мой взгляд, неправильны — как крайние точки зрения. Есть как бы два класса российских немцев — крестьяне и интеллигенция. Крестьяне действительно самоизолировались в степях, а интеллигенция... Простите, но половину петербургской интеллигенции составляли немцы! И купечество было немецкое — не целиком, но значительная часть. Даже у Пушкина постоянно упоминаются немцы.
Бернгардт: Естественно — хотя бы потому, что если он пишет о своем прадеде-эфиопе, то должен помнить и его жену — свою прабабку-немку.
Борис Викторович: Возьмите любого русского писателя, и Вы увидите, что немцы у него всегда играют какую-то роль. Были колонисты, варившиеся в собственном соку, но были и немцы, которые стояли во главе государства. Возьмите царских министров — из них половина были немцами. То есть я бы не стал так категорично говорить. Было и то и другое.
Бернгардт: А все-таки, как бы Вы сами ответили на этот вопрос? Мы свою миссию выполнили? И вообще, была ли она, эта особая миссия?
Борис Викторович: Я думаю, что никакой особой миссии не было. Просто было желание приобщить Россию к европейской культуре, и поэтому приглашали немцев, голландцев, англичан — кого угодно. Но реально можно было "импортировать" только немцев, потому что в Германии в то время шли войны и народ оттуда бежал. Это во-первых. Во-вторых, сами русские цари были немцами — Екатерина II и так далее. И для них приглашать немцев было совершенно естественно. До какого-то года еще в прошлом веке заседания Академии наук в Петербурге шли на немецком языке, потому что большинство академиков были немцы. Это в какой-то мере ответ на Ваш вопрос.
Во всех слоях русского общества был свой "немецкий" элемент, но в разных слоях он действовал по-разному. В сельском хозяйстве, как правило, не было такого, что стоит, скажем, мельница, на ней один работник немец, а остальные — русские. Были отдельные сельские немецкие колонии. А вот интеллигенция, промышленники, военные, дворянство — среди них немцы были широко представлены, особенно в Петербурге. Потому что Петербург был окружен прибалтийскими землями, во главе которых стояли немецкие бароны, потомки крестоносцев.
Бернгардт: Что касается немецких колонистов, особенно в Поволжье, то они на первых порах выполняли функцию своеобразного буфера, "живого щита" окраин Российского государства.
Борис Викторович: Да, они были буфером и знали об этом. Поначалу даже в поле ходили вооруженными. Когда-то была масса историй на эту тему. Мне отец рассказывал про одного мальчика, которого захватили кочевники и вместе с другими отправили в рабство. Мальчишка бежал через страшные препятствия, вернулся, все рассказал, была погоня. Это действительно имело место и показывает, в каких условиях жили колонисты. Там не было никакого рая. Это была жесткая жизнь, и они выполняли роль защитников Русского государства.
Бернгардт: И при этом, как писал в начале века в своей книге "История поволжских немцев-колонистов" Яков Дитц, с колонистов еще взимали долги за угнанных в плен. Ссуды, которые государство давало переселенцам, были возвратными, и уцелевшее население колонии всем "миром" расплачивалось за тех, кого кочевники убили или угнали в рабство.
Борис Викторович: Да... Но кому, я задумываюсь, это сейчас интересно? Немцев же почти не осталось в России.
Бернгардт: Молодежи, может быть, и малоинтересно, но более зрелым людям, после 30-40 лет, это интересно. Наступает такой возраст, когда вдруг появляется интерес к своим корням.
Вера Михайловна Раушенбах: А сколько примерно немцев осталось в России?
Бернгардт: Трудно сказать. Если судить по высказываниям г-на Гуго Вормсбехера, то миллионов семь.
Борис Викторович: Что-то очень много.
Бернгардт: А у него такая теория. Он учитывает жен и мужей в смешанных браках, их детей, внуков и так далее. А реально, я думаю, можно вести речь о тысячах 600.
Борис Викторович: То есть грубая оценка — где-то миллион. Я так и считал.
Бернгардт: По последней переписи в РСФСР их было около миллиона. С этого момента в Германию "чистых" немцев уехало, наверное, около половины. Но если учесть прирост за эти 10 лет, миграцию из Казахстана и Средней Азии, то, думаю, тысяч 600 получится.
Борис Викторович: Да. Но они вымирают — в том смысле, что ассимилируются. Вот, к примеру, мои дети. Они уже не немцы, хотя и были в Германии. Внучка тоже была и по-немецки говорит, но... все равно — это уже не то.
Я сделал так, чтобы все мои близкие побывали в Германии. Поэтому там были и моя жена, и дочки, и внучка, осталось только внука свозить. Внучка пару лет назад — не знаю, как сейчас, — свободно говорила по-немецки. Она жила в Германии 3 месяца в порядке какого-то обмена. Дети быстро осваивают язык. Я ее брал еще, когда ей было лет 8, и она там с детьми играла. Сейчас она в университете учится, языковой практики никакой. Но она говорила для русских, я считаю, очень хорошо.
Бернгардт: Как-то мне довелось слышать рассказ о ситуации с родным языком у немцев Канады. Первое поколение, чтобы закрепиться на новом месте, усиленно изучает новый язык, осваивает местные обычаи. Второе в этом преуспевает и вдруг обнаруживает, что начинает утрачивать свои национальные традиции. А третье поколение уже вынуждено прилагать большие усилия для восстановления родного языка. Но мотивация-то у него не такая жизненно важная, как была у первого поколения, да и условия совершенно иные.
В этом смысле мы не исключение. Ассимиляция идет полным ходом, как результат государственной политики нашей страны, как плата за успешную интеграцию в среду обитания. Хотя фамилии остаются.
Я, например, немец наполовину, жена у меня русская, значит дети — уже немцы только на четверть, то есть по сути русские. Но тем не менее в детстве им за фамилию доставалось: "А ваш дедушка Ленина убил!" и так далее.
И, скажем, если сравнивать с тем, как здесь живется, например, евреям, то лица немецкого происхождения не могут чувствовать себя так вольготно.
Борис Викторович: Нет, конечно.
Бернгардт: Поэтому главная задача нашей серии "Штрихи к судьбе народа" — "реабилитация" слова "немец" на территории России.
Борис Викторович: Восстановление репутации, которая была испорчена войной.
Бернгардт: Совершенно верно. Российские немцы это уже сделали своей достойно прожитой жизнью, и теперь надо рассказать о них. Показать всем, что "не так страшен немец, как его малюют".
Чтобы наши потомки, пусть они сто раз ассимилируются, чувствуют себя русскими или корейцами, кем угодно, могли как личности гармонично развиваться. Чтобы немецкая фамилия их окрыляла, а не давила страшным прессом.
Вера Михайловна: Я думаю, та эпоха, когда немецкая фамилия воспринималась в штыки, прошла и больше не вернется.
Бернгардт: Я бы сказал более осторожно: только начинает проходить.
Вера Михайловна: Но она не вернется. Это уже другой этап развития истории.
Эдуард Бернгардт: Борис Викторович, расскажите, пожалуйста, о своих предках. Начнем, наверное, с материнской линии?
Борис Викторович Раушенбах: Моя мать в девичестве носила фамилию Халлик. Она жила на острове Эзель (Сааремаа), в городе, который по-эстонски сейчас называется Курессааре. Там в центре стоял замок, и город по замку назывался Аренсбург. Так было в царской России, когда в Эстляндии имели хождение немецкие, а не эстонские названия.
Я там бывал в 22-24-м годах, когда из Советского Союза еще можно было выезжать. Это кончилось в 25-м году. Мы на дачу туда ездили. Было дешевле ездить на дачу к близким матери в Эстонию, чем снимать ее под Ленинградом. Потом все закрыли: "граница на замке" — такой, кажется, был лозунг. А в 22-24-м было легко: садишься — и едешь.
Отец присылал туда деньги из Ленинграда, они переводились на эстонские марки, и мы там на шее у родственников не сидели, только не платили за жилье. Мать была у себя дома. Бабушка еще тогда была жива, дедушка был жив. Я их хорошо помню.
Бернгардт: Они, наверное, хорошо говорили по-эстонски?
Борис Викторович: Конечно! И мать хорошо говорила. В этом городе все говорили либо по-эстонски, либо по-немецки, а по-русски — только чиновники. Делопроизводство ведь было на русском языке. Не помню, на каком языке шло преподавание в гимназии. Наверное, все-таки на русском. Но было и несколько школ. Во всех школах (например, в Töchterschule для девочек) преподавали только на немецком языке.
Мать, когда выросла и приехала в Петербург, хотела устроиться на работу кем-то вроде бонны в одну семью, куда ее пригласили состоять при детишках. И ее первым впечатлением было, что это город невероятно высокой культуры. Почему, спрашивается? Потому, что в нем "даже извозчики умеют по-русски разговаривать!" (Дружный хохот.) Она потом со смехом рассказывала, что на нее это очень большое впечатление произвело. Действительно, невероятная вещь, если учесть, что у них по-русски разговаривали только чиновники и очень образованные люди.
Бернгардт: А как ее звали?
Борис Викторович: Леонтина. По-немецки — Леонтине. Деда звали Фридрих, поэтому по-русски она была Леонтина Федоровна. А бабушку звали София. Мать была где-то с 1886-1890 года: когда в 17-м родилась моя сестра, ей было 30 лет плюс-минус два года. А когда родились ее родители, я не помню. Когда я их увидел, им уже было много лет. Старушка и старичок, на глаз лет 70, наверное.
Сохранились кое-какие семейные фотографии, но не у меня, а у сестры — мы жили в Москве, а она оставалась в Ленинграде. Все, что у нас здесь есть, мы сами приобретали. Ничего с прошлого века у нас нет.
Дед, Фридрих Халлик, был купцом. Видимо, довольно-таки крупным до революции. У него была лавка на окраине города. Большая, в несколько окон. И торговал он всем, что нужно в хозяйстве. Я бы сказал — хозмаг, но там можно было и тетрадки купить, и карандаши и так далее.
Когда он умер, его старушка считала, что надо продолжать дело, хотя толку от нее никакого не было. Мой дядя, ее сын, лавку эту закрыл и оставил один такой маленький закуточек, как пенал, где сидела бабка. К ней никто не ходил, но она сидела — продолжала Дело. Туда был узенький вход, и она там "торговала". И была страшно довольна, что ведет жизнь купеческой вдовы.
Мой дядя (у него тоже была купеческая хватка) после гражданской войны стал развивать это дело: купил и оборудовал магазин канцтоваров. А перед войной они все рванули в Германию. Дедушка с бабушкой уже умерли к тому времени.
Я пытался найти их могилы. Учинил целые поиски, когда был гостем Эстонской Академии наук. Местный горком партии “поставил всех на уши”, чтобы найти могилы моих деда и бабушки. Не нашли. Видимо, перестали ухаживать, и они пропали. По указанию горкома даже разыскали старика, который когда-то работал на этом кладбище. Но где эти могилы, он не помнил, слишком много лет прошло.
История немецкого населения в Эстонии очень сложна. По-разному немцы туда попадали, и по-всякому складывались их судьбы. А о том, что было, когда перед войной Эстонию присоединяли к Советскому Союзу, мне рассказывал мой двоюродный брат, с которым мы встретились в Германии.
Все было тихо, они жили в маленьком эстонском городе. Была страна Эстония. Но однажды они видят: на рейде встали немецкие суда. Пассажирско-торговые, не военные. Одно, другое, третье... Стоят, ничего не грузят, не разгружают, народ удивляется. Уже подписан пакт Риббентропа-Молотова, и вдруг им говорят, что любой немец может выбрать — остаться или ехать в Германию. Если он хочет ехать, то должен сесть на эти корабли, а багаж пакуется и сдается на железную дорогу. Они, конечно, решили не оставаться, поскольку жили в России во время гражданской войны и знали, что это такое. Уехали в Германию. Там им тоже пришлось туго — шла война, и они потеряли все, что у них еще было.
Корабли пришли специально, чтобы забрать немцев, это все было обговорено заранее. Родственники сели и уехали, а через месяц получили свое имущество, стулья и столы по товарным квитанциям. Советские власти сделали все так, как договорились с немцами.
Я нашел близких после войны, когда стал ездить в Германию. Нашел очень просто. По некоторым данным я знал, что они должны быть в Гамбурге. Когда приехал в Гамбург, взял в гостинице телефонную книжку — весь Гамбург там. Нашел их фамилию, посмотрел по именам, они совпадали. Я набираю номер и (смеется) говорю: "Здравствуйте". Попал к Конраду, своему двоюродному брату. "Вы такие-то?" — "Да". Я еще что-то спросил. Он: "Это кто, Борис?" (Смеется.) Сразу! Ну, во-первых, у меня прибалтийское произношение, которого в Германии нет. То есть он понял, что говорит свой, прибалт. А кто из прибалтов может его спрашивать? Кроме меня — никто.
Я у него был, мы вспоминали молодые годы. Мы одногодки, играли вместе. Сейчас он, к сожалению, уже умер, но младший брат его до последнего времени был жив. Конечно, у них есть там и дети, и внуки. Причем один внук носит имя Борис, но не думаю, что это в честь меня.
Что касается моих предков по линии отца, то там все просто — это были крестьяне из Поволжья, нынешнего Марксовского района Саратовской области. Поэтому я в 17-м году и попал в Марксштадт (тогдашний Екатериненштадт).
В Петрограде были волнения, стреляли, шла революция. Отец решил, что хорошо бы на лето убрать семью подальше от бурлящего Петрограда. Стрельба была серьезная, у нас была обстреляна квартира, прострелены пулями картины. Так они и висели до войны. Поэтому мы подались на Волгу, там было тихо.
Но когда мы туда приехали, началась революция, и мы застряли там на 3 года, мать, я и Карин. Отец все это время был в Петрограде, а в конце 20-го года он за нами приехал, и я хорошо помню отъезд.
Приезд туда я помню плохо: 17-й год, мне было года два с половиной. Помню только пароход и каких-то девиц, как я теперь понимаю, лет 20-ти. Им было интересно, что возле них бегает какой-то маленький мальчик. Они спрашивали: "Мальчик, тебе сколько лет?" Я отвечал: "Пять!" Это было единственное число, которое я знал. Они удивлялись: "Пять, а такой дурачок!" Тогда им объяснили, что не пять, а два с половиной. Они восхитились и подарили мне фарфоровую овечку, с ней я играл очень долго.
Мне повезло: я жил на Волге, где было хорошо в смысле питания, а Петроград был голодный. И когда я вернулся туда, там стало нормально, а на Волге начался голод. Так что я удачно избежал голода.
Когда мы приехали на Волгу, дедушки с бабушкой уже не было. Знаю только, что деда звали Якоб, потому что отец — Виктор Яковлевич. По семейным преданиям, мой отец был нелюбимым сыном. Я не знаю причины, но дед не любил его. Поэтому дед готовился к тому, чтобы передать хозяйство старшему сыну, моему дяде. Дядя вел хозяйство, впоследствии к нему все и перешло. Сам он был пьяницей и все в конце концов пропил, но это было потом.
Хозяйство нельзя было делить, поэтому моего отца отправили в Германию учиться. Ну и слава Богу! Там он выучился на кожевенника, по-нашему — кончил кожевенный техникум. Из Германии вернулся уже в Петербург — что там дома было делать? Устроился на фабрику "Скороход", это была немецкая фабрика.
Немцами были директор, все мастера, и они по-немецки разговаривали между собой. Рабочие, конечно, были русские. В Питере заводы принадлежали, в ос-новном, иностранному капиталу. Были заводы французские, немецкие. Так вот, "Скороход" принадлежал немецкому капиталу. Там даже были свои немецкие порядки, был прекрасный кегельбан. Мастера после смены собирались в кегельбане, пили пиво и гоняли шары. Просто такой немецкий островок.
Потом, когда произошла революция, и даже раньше, когда началась война, немцев стали вытеснять. Те, кто были подданными Германии, были вынуждены смотаться, а немцы российские — их зажимали очень, и отца моего тоже. Тогда все эти немецкие фокусы с пивом, кегельбаном и прочим кончились. Но многие мастера остались, деваться-то некуда. И отец остался.
Во время революции директор сбежал. Отца выбрали техническим директором кожевенного завода — тогда руководителей производства выбирали. Был "красный директор", который ничего не понимал, и был директор по технической части.
Бернгардт: В Марксштадт вы ездили к брату отца?
Борис Викторович: Нет. Возможно, родственники отца и играли в этом какую-то роль, но я не помню, чтобы когда-то шла речь о его брате.
Отец привез нас к каким-то своим знакомым, с их помощью снял маленький однокомнатный домик. И мы там жили — мать, я, сестра, она на два года младше меня. Никаких удобств там не было, даже, извините, сортира. Я бегал за дом, если была надобность, и за забором, сняв штаны, делал все, что полагается. Я это к тому, чтобы показать наш образ жизни.
Мать там работала, хотя вообще-то была домашней хозяйкой. Несмотря на то, что шла гражданская война и была уже Советская Россия, почта функционировала, и отец присылал нам деньги. Но вышло какое-то решение ЦК партии о том, что "кто не работает, тот не ест" и что все должны трудиться. Мать пошла в исполком машинисткой, хотя до этого она никогда не печатала. Но там научилась постепенно. Несколько дней посидишь — научишься. И потом, она могла грамотно писать по-немецки. Кроме того, писала и по-русски. Не уверен, что грамотно, но, во всяком случае, русский она тоже знала. Но это было недолго, несколько месяцев. Видимо, потом указ о трудовой повинности отменили.
А пока она работала, я ходил к ней. Машинистки давали мне катушечки от машинки, и я ими играл. Машинисток я не помню, а катушечки запомнил.
Так что жили мы, как я сейчас понимаю, в основном на средства отца.
Отец приехал за нами осенью 20-го, раньше туда невозможно было проехать из-за войны. Я запомнил его пребывание там по одной истории. Однажды он мне сказал: "Слушай, а ты хочешь птичку поймать?" — "Конечно хочу!" — Какой же ребенок не хочет поймать птичку? — "Ну пойдем птиц ловить". Я говорю: "А куда?" — "На Волгу, куда же еще? Только надо взять с собой соли".
Взял он немного соли, и мы пошли с ним птиц ловить. Пришли на Волгу, он говорит: "Видишь — птички? Так вот, имей в виду, что стоит только насыпать птичке соль на хвост, как она сразу ручной становится. Ты незаметно к ним подползай и сыпь. Как только насыплешь, можно брать ее руками, играть с ней и делать все, что хочешь". И я пополз (хохочет) с солью ловить птиц. А он сидел в стороне и "угорал", но внешне у него был очень серьезный вид.
Ни одной птицы я не поймал, и всю обратную дорогу он мне говорил: "Ну что ж ты! Я в детстве столько птиц поймал, а ты такой (смеется) болван растешь, не смог такую простую вещь сделать — птице на хвост соль насыпать. Что же из тебя выйдет?"
Это в какой-то мере показывает характер отца.
Бернгардт: Наверное, хороший был характер, легкий?
Борис Викторович: Да, он был очень добрый.
Умер он в 30-м году, когда мне было 15, а ему — 60. Он рано умер. Для семьи это был очень сильный удар, все же на нем держалось. У матери-то никакого образования не было, а мне всего 15 лет.
Бернгардт: У Вас с ним были хорошие отношения?
Борис Викторович: Очень.
Бернгардт: Вы могли с ним обсуждать что-то серьезное?
Борис Викторович: Что можно обсуждать с 10-летним парнем, кроме игр? Когда мне было уже ближе к 15-ти, я почувствовал, что отец хочет годам к 20-ти передать мне свой жизненный опыт, но он ничего не успел сделать. Мы начали с ним в разговорах обсуждать более серьезные вещи, но судьбе было угодно распорядиться по-другому...
Меня и сестру фактически вытянула мать. Она была очень энергичная, работящая, хорошо умеющая организовать дело женщина.
Мы жили за счет жалкой пенсии, ее не хватало ни на что, и она давала уроки немецкого языка. У нее была страшная нагрузка, она бегала по урокам с утра до ночи. Кроме того, еще надо было где-то работать официально, и она устроилась регистратором в поликлинику. Но что получает регистратор, сидящий при входе? Не больше санитарки. Единственное преимущество этой поликлиники было в том, что она находилась в пяти минутах ходьбы от дома.
Вера Михайловна Раушенбах: Это во-первых, а во-вторых, медперсонал имел 6-часовой рабочий день.
Борис Викторович: Может быть. Такие тонкости я тогда не улавливал, потому что носился где-то с мальчишками по своим делам.
Бернгардт: То, что она преподавала немецкий язык, как-то сказалось на Вашем обучении?
Борис Викторович: На обучении никак не сказалось, но это давало возможность нас кормить. У нас была бедная семья. Мы очень скудно ели: никогда не было мяса, колбасы, сыра, масла, всегда только маргарин. Мать варила что-то вроде джема, и мы его мазали на хлеб.
Но несколько раз в год, на день рождения сестры, или на мой, или матери, когда приходили гости, у нас на столе появлялись масло и сыр. И это был для нас праздник не только по форме, но и по сути, потому что мы получали какую-то невероятную еду экстракласса. Хотя, как я сейчас понимаю, это была просто нормальная еда.
Бернгардт: Все познается в сравнении.
Борис Викторович: Конечно. В общем, нас вытащила мама.
Бернгардт: Вы как-то говорили, что она присылала Вам посылки в трудармию?
Борис Викторович: Да, она раза два присылала мне посылки с Алтая.
Вера Михайловна: Дело в том, что она выросла в Эстонии и прекрасно вязала. Это им очень помогло. На деньги, что получала сестра Кара, закупали шерсть, и мать вязала роскошные шерстяные платки. Именно это давало им возможность там жить и даже отправлять посылки. Мне они тоже в феврале прислали посылку, где была крупа, миска замороженного масла и замороженного молока.
Бернгардт: Вы совместно с ней никогда не жили?
Вера Михайловна: Она жила в Ленинграде, а мы в Москве.
Борис Викторович: Мы встречались и здесь и там, но не жили вместе.
Вера Михайловна: Когда Борис и Кара выучились, они скинулись и с первой зарплаты купили маме путевку в Сочи. Это было для нее такое счастье!
Борис Викторович: Первый раз в жизни поехала на курорт — "как барыня".
Вера Михайловна: Она всем рассказывала: "Мои дети на первые заработанные деньги купили мне путевку".
Бернгардт: А как правильно зовут Вашу сестру?
Борис Викторович: Карин, это шведское имя. Моя мать, как все эстонцы и вообще прибалты, очень любила Швецию. Когда-то они входили в состав Шведского королевства, и для них Швеция — предел мечтаний. Поэтому и меня, и сестру назвали шведскими именами.
У меня имя Ивар, а второе — Борис. Но пастор записал в метрике наоборот: Борис Ивар. Поэтому я стал Борисом. А у сестры правильно записано: Карин Елена. Но все ее называют Карина, потому что для русского уха Карин — это мужское имя, а не женское.
Бернгардт: Когда Вам было уже 14-15 лет, отец обсуждал с Вами какие-то политические темы: революция, положение в стране и так далее?
Борис Викторович: Нет, он считал, что я слишком мал для этого. Но отец всегда ругался, что кругом бесхозяйственность...
Бернгардт: Да, типичная тема для брюзжания, тем более у немца.
Борис Викторович: Ходил и ругался: почему здесь куча мусора, как она сюда попала, почему лежит и до сих пор (смеется) не убрали? Вот это он очень переживал. Ему было больно, что нет порядка, нет хозяина. Был бы хозяин — дворники бы тут же прибежали и убрали.
Не то что он меня учил, просто у него иногда срывалось. Выражал свои эмоции, и если я в этот момент был рядом с ним, то их частички "падали" и на меня. А так никаких политических или исторических (что было раньше, что позже) разговоров не было. Может, он боялся, что я, как маленький, где-нибудь начну болтать, а это...
Бернгардт: ...к тридцатому году уже было чревато.
Борис Викторович: Это всегда было опасно. И он понимал, что лучше держать меня от всего этого подальше.
Бернгардт: А когда отец приходил с работы, что он делал? Любил читать или...
Борис Викторович: Он приходил домой очень вымотанным, усталым. Иногда, ложась спать, читал какую-нибудь немецкую книжку. По-русски он не читал, насколько я помню. А обычно нужно было что-нибудь делать по дому, мать всегда требовала. Знаете, как это в семье бывает...
Вера Михайловна (тихо): Вот видишь...
Борис Викторович: Но я же не говорю, делал он или нет!
Вера Михайловна: Делал, делал...
Бернгардт: Но на первом месте для него, наверное, была работа на производстве?
Борис Викторович: Конечно. Причем это всегда были сильные и очень отрицательные впечатления. Он считал, что все идет под гору. Все разваливается, разрушается, то, что было хорошего, уничтожается, а новое — одно барахло. И он был прав по-своему, потому что это действительно было время, когда дисциплина падала, снижалось качество продукции, и прочее, и прочее. Он все это наблюдал и очень тяжело переживал.
Бернгардт: А мать успевала что-то читать?
Борис Викторович: Она всегда варила, шила или еще что-то делала. Я не помню, чтобы когда-нибудь видел ее с книгой в руках. У нее физически не было на это времени.
Но она ни разу в жизни мне ничего не запретила. Не было такого: "Не смей! Нельзя! Это нехорошо!" Понятно, что воровать, например, нехорошо. Но воровать я не собирался, просто хотел пойти туда-то, с тем-то. И всегда слышал от нее: "Делай как хочешь!" Даже когда я в Москву уезжал (это было неожиданно для нее), она так же сказала. Это чтобы я потом никогда не смог сказать, что из-за матери чего-то не достиг. Я думаю, что она правильно делала.
Умерла она в 1951 году. В 50-м родились наши девочки, и когда им было полтора года, мы поехали показать их бабушке. Она их видела, у нас даже фотография есть...
Бернгардт: Вы упоминали, что еще в школе знали Бруно Артуровича Фрейндлиха.
Борис Викторович: Мы учились с ним в одной школе ("Reformierte Schule"), но он был старше меня. Старшие младших не помнят, а младшие старших помнят.
Бернгардт: Он участвовал в каких-то школьных спектаклях?
Борис Викторович: В драмкружке. У нас был хороший драмкружок, им руководил актер из Ленинградского ТЮЗа. Они ставили пьесы, я помню только одну, но она показывает уровень драмкружка: "Проделки Скапена" Мольера. Я это запомнил, потому что Скапена играл мой друг — Алька Регель. Он был удивительный артист. Таланты в нем были заложены потрясающие...
Бернгардт: А Бруно Артурович тоже выделялся?
Борис Викторович: Там все выделялись. Несколько человек были просто с огромными талантами. Бруно Фрейндлих, Альфред Регель, еще кто-то, фамилии которых я сейчас уже не помню.
Бернгардт: Бруно Фрейндлих стал впоследствии народным артистом СССР, а как сложилась судьба Вашего друга Альки?
Борис Викторович: Он исчез в 37-м, и я думаю, что его расстреляли. Когда мы учились уже где-то в классе восьмом, надо было думать, что делать дальше. Он решил, что пойдет в мореходку, станет капитаном, и подал документы. Но всех послали на корабли, а его — нет. Почему? Его старший брат был морским офицером и погиб во время Кронштадтского мятежа. В этом мятеже он даже командовал линкором "Андрей Первозванный". И стоило Альке заполнить анкету, как выяснилось, что его родной брат — один из активных участников мятежа. Все было предрешено... А он хотел на флот, — видимо, в память о брате.
Я помню, мы играли его парадным палашом, который хранился в семье. Упругая сталь приятно гнулась, на ней были выгравированы броненосцы...
Поскольку на флот его не брали, он, как искатель приключений, завербовался на два с половиной года в Туркменистан на какую-то научную станцию изучать движение песков. Его делом было измерять высоту барханов с разных точек. Оттуда он вернулся, но потом вдруг исчез.
Кстати, отец Альки Роберт Регель происходил из известной научными традициями семьи (его отец и старший брат, (то есть Алькины дед и дядя — прим. автора), были крупными учеными). Он был создателем Ботанического сада в Сухуми, стоял у истоков будущей Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук. Умер в гражданскую войну от тифа...
Бернгардт: Я смотрел в Ленинской библиотеке литературу на фамилию Раушенбах: там есть и Вера Михайловна — ее раскопки.
Борис Викторович: Да, раскопки. Потом там есть я, есть другие, в частности преподаватель немецкого языка Валентин Эдуардович Раушенбах.
Вера Михайловна: Он пытался как-то на нас выйти и тоже просматривал библиографию в Ленинке. И решил, что В.М. Раушенбах — это как раз и есть...
Борис Викторович: Я!
Вера Михайловна: Да. Но однажды наша дочь Оксана была на конференции в Пущино, и там делал доклад какой-то Раушенбах. В перерыве она подошла к нему и сказала: "Я тоже Раушенбах". Таким образом она познакомилась с сыном Валентина Эдуардовича, а потом уже мы познакомились с Валентином Эдуардовичем и Эльвирой Сергеевной. Они у нас бывали, мы к ним в гости ходили.
Бернгардт: Если брать по годам, то самая старая раушенбаховская работа там датирована 1854-м годом. Раушенбах, кажется, Фридрих Карлович...
Борис Викторович: Очень может быть. Я этим не занимался, но Валентин Эдуардович занимался историей семьи очень тщательно и установил, что в Россию приехал только один Раушенбах, в конце XVIII века. Карл Фридрих Раушенбах. Приехал он из Саксонии, из района Лейпцига, через такой-то порт и так далее. Все у него там записано.
Бернгардт: Через Любек, наверное.
Борис Викторович: Да, в конечном итоге, видимо, через Любек, но "стартовал" он из порта Рослау на Эльбе. Когда я был в Германии, то поехал в этот город. Специально. Пошел на реку и пытался ощутить себя первопроходцем, который рванул в Россию.
В Россию в тот момент ехали всякие голодранцы, поскольку только что кончилась Семилетняя война, Германия была разорена, есть было нечего, и люди были готовы ехать куда угодно. Кто-то уехал в Америку, а часть рванула в Россию, и мой предок тоже.
Но! В Россию Екатерина предпочитала брать семьи, и надо было срочно жениться. Потому девицы в портовых городах были нарасхват. Приходил молодой парень, хватал первую попавшуюся девицу, которая согласится. Так и мой предок схватил какую-то девицу (я знаю ее имя и все прочее, у меня это где-то записано), и они быстренько сыграли свадьбу. У меня есть копия брачного свидетельства моего суперпредка, взятая в церкви. Как только они поженились, то рванули в Россию, и дальше уже начинается российская часть истории.
Городок, прямо скажем... В общем, ничего хорошего. Он тогда в ГДР входил. Я походил-походил, и меня вдруг страшно потянуло в Россию. Прямо (смеется) как моего предка!
Вера Михайловна: Мы все время думали, что, кроме Бориса Викторовича, других Раушенбахов больше нет. Но после того, как его стали по телевидению показывать, нам начали писать разные Раушенбахи со всех концов Союза.
Борис Викторович: И даже удавалось установить степень родства.
Вера Михайловна: В районе Херсона нашелся его двоюродный брат.
Борис Викторович: Двоюродный брат, которого я никогда не знал. Наш дед после смерти моей бабушки женился вторично, на своей служанке, и от второго брака пошли дети, которые от детей из первой семьи были отделены, может быть, 20-ю годами с лишним. Поэтому "ранние", если можно так выразиться, Раушенбахи держались вместе, а этих они не то что не признавали, а просто не имели с ними контактов. Мы установили контакт с одним из таких "поздних" Раушенбахов.
Вера Михайловна: Нам пришло письмо, а так как Борису Викторовичу этим некогда было заниматься, то он дал адрес своей сестры, и они с ней переписывались. Сейчас он уехал в Германию.
Борис Викторович: Но продолжает с ней переписываться. Это родственник от второго брака деда, то есть мой "полудвоюродный" брат.
Бернгардт: А вот Раушенбах 1854 года был врачом.
Вера Михайловна: Мы знаем, что в Москве сейчас тоже есть какой-то Раушенбах, врач по профессии, онколог, который не захотел идти с нами на контакт.
Борис Викторович: Да, он в каком-то смысле даже сопротивлялся этому. Валентин Эдуардович собирал всех Раушенбахов, но тот отказался.
Бернгардт: Наверное, сказал, что не считает себя немцем и так далее. Встречаются такие.
Борис Викторович: Да, что-то в этом духе.
Вера Михайловна: Дескать, отстаньте от меня!.. Но он, наверное, тоже какой-то родственник.
Борис Викторович: Конечно, я же говорю: в Россию приехал один Раушенбах. Так что все Раушенбахи, живущие в России, родственники. Отличия только в степени родства.
Вера Михайловна: Когда Борис Викторович был на какой-то международной конференции, туда приехал один Раушенбах из Швейцарии. Но потом он заболел раком. А женат он был на индуске Лакшми. Она приезжала сюда, и мы встречались с ней у Валентина Эдуардовича.
Борис Викторович: Так что у нас есть родственница-индуска Лакшми. У нее даже красное пятнышко на лбу. Это какой-то кастовый признак, правда, не знаю, что он означает...
Эдуард Бернгардт: Вера Михайловна, Вы ведь носите фамилию Раушенбах?
Вера Михайловна Раушенбах: Да, и за это я имела массу "удовольствий". Если бы я не была Раушенбах, было бы проще жить.
В университете на факультете, где я училась, получали повышенные стипендии за хорошую успеваемость, как на грех, студенты с фамилиями Мец, Штекли, Левинсон, Раушенбах, Мерперт и так далее. Кроме евреев, там затесались я и Штекли — немец, которого потом посадили. Так что это всегда было чревато всякими неприятностями. Ну и, естественно, на работе, чуть что: "Как, немецкая фамилия?!" Каждый раз объясняй. В общем, веселого было мало.
Я, конечно, жалела, что мы такую фамилию выбрали. Это мама Бориса Викторовича виновата. Когда мы пришли в ЗАГС, я хотела свою фамилию оставить. Независимо ни от чего, просто считала, что у меня достаточно хорошая фамилия. Но его мама сказала: "Ну как это может быть, чтобы у мужа и жены были разные фамилии?" Мне неудобно было спорить со своей свекровью — вот так и получилось, что у меня эта фамилия.
Борис Викторович Раушенбах: Ну и я тебе то же самое говорил: "Ты должна со мной считаться!" — как-то так.
Вера Михайловна (смеясь): А с кем мне еще, как не с тобой, считаться?! Ты-то ладно, а вот со свекровью действительно надо было считаться.
Бернгардт: Она приезжала из Питера на свадьбу?
Борис Викторович: На нашу свадьбу приехали обе мамы: одна — с Украины, другая — из Питера.
Вера Михайловна: У меня отца не было, и у него отец умер. Так что только наши мамы и были на свадьбе.
Бернгардт: А как вы вообще познакомились?
Борис Викторович: Мне ее привезли.
Вера Михайловна: Это была очень интересная история. Я воспитывалась у дяди — Якова Павловича Иванченко, брата моего отца. Он занимал очень крупный пост, какое-то время возглавлял всю трубную промышленность Советского Союза и жил в Харькове. Там я окончила 10 классов, но учиться меня послали в Москву. А у дяди, так как он занимал высокий пост, была квартира и в Москве. Небольшая трехкомнатная квартира в самом центре, на Петровке.
Надо сказать, что все старые большевики были великими филантропами, каждый считал своим долгом всем помогать. Дядя, например, воспитывал не только меня и мою двоюродную сестру, но и совершенно постороннюю девочку, потому что у ее матери не было мужа. Моя тетка, которую немцы потом расстреляли в Харькове, тоже воспитывала какую-то девочку. Эта девочка училась в Москве, и одну комнату в квартире дяди занимала она.
А квартира была расположена так — одна изолированная комната и две смежные. В этих смежных комнатах жила я. Но когда после смерти Орджоникидзе дядя с отчетом приехал в Москву, в Наркомат тяжелой промышленности, который после Орджоникидзе возглавил Межлаук (он потом был расстрелян), то дядю арестовали прямо в кабинете наркома.
На следующую ночь ко мне явились соответствующие лица делать обыск. Потребовали (усмехается) у меня оружие. А мне было 17 лет. Сделали обыск. Ничего, конечно, не нашли, однако эти две комнаты опечатали, а в третьей жила воспитанница моей тети. Она сказала, что к нам никакого отношения не имеет и вообще тут ни при чем. Ее не тронули, и эту комнату ей оставили. А для меня остались ванная, там я спала, и кухня, где я занималась.
В институте запретили со мной разговаривать, пытались исключить из комсомола. Было уже постановление бюро — исключить. На факультете я была самая младшая, а все парни вернулись из армии и были уже, по сути, взрослыми. Они начали топать ногами и кричать, и меня не исключили. Общее собрание отменило постановление бюро. Но тем не менее, сами понимаете, мне было очень "весело".
Спустя месяц — было 17 июня, я это очень хорошо запомнила — приехала машина, на ней какой-то майор НКВД с рабочими. Распечатали комнаты, загрузили все мои вещи, и он мне говорит:
— Куда Вас везти?
— Некуда.
— Как некуда? У Вас какие-то родственники есть в Москве?
— Нет никого, потому что я с Украины.
— А знакомые?
— Знакомым запретили со мной разговаривать!
Он уехал, я сижу на кухне. Часа через два приезжает:
— Ну, пойдемте!
Сели мы в "эмку" и едем.
— А почему Вы не спросите, куда я Вас везу?
— Мне все равно. Мне некуда!..
Привез. Успенский переулок (есть такой недалеко от Ленкома), 4-комнатная квартира, и в одну из комнат меня сгрузили — всю мебель в разобранном виде. Оставил мне документы: "Живите здесь! Вот документы на прописку. Все, как полагается. Если захотите выйти замуж, выходите. Можете мужа прописать, пожалуйста. Но никого из Ваших родственников!"
Я осталась с этой разобранной мебелью. Подходит какой-то молодой человек, который жил в одной из комнат, и говорит:
— Я женат, поэтому, пожалуйста, не обращайте на меня внимания!
— Да нужны Вы мне, как рыбке — зонтик!
— Вот придет Борька с работы, пусть он за Вами ухаживает!
Вскоре пришел Борис Викторович, они вдвоем собрали мне мебель, все расставили, и стала я там жить.
Выяснилось, что эта квартира принадлежала Софье Михайловне Авербах, которая была родной сестрой Якова Михайловича Свердлова, а ее дочь была замужем за Ягодой. Ягоду посадили, а Софью Михайловну выслали как тещу.
Борис Викторович: Дом этот до сих пор существует, там сейчас посольство какой-то африканской страны (Посольство Республики Бенин — прим. автора). Успенский переулок, дом 4а. Там церковь Успения, поэтому переулок так назвали. Эта церковь до сих пор стоит. Во времена атеизма она не действовала, не знаю, как сейчас (Действующий храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках — прим. автора).
Вера Михайловна: Это небольшой 2-этажный дом, который построили для себя какие-то нэпманы. На первом этаже две квартиры и на втором — две. Шикарные квартиры с двумя входами — черный, через кухню, и официальный, через парадное. Большой роскошный зал с камином. Из него выход на кухню и в коридор, где были двери в туалет, ванную и в мою комнату. В зал выходили еще две комнаты. Одну снимали Борис Викторович с приятелем, а вторую занимала семья, в которой было всего-навсего 12 детей.
Бернгардт: Сколько же их там приходилось на квадратный метр?
Борис Викторович: Формально им дали две комнаты. Проходная также считалась их комнатой, но жить там было невозможно.
Вера Михайловна: Это был 37-й год, а в 41-м мы с ним поженились.
Бернгардт: Можно сказать, Борис Викторович, что НКВД обеспечил Вас невестой?
Вера Михайловна: С доставкой на дом!
Борис Викторович: Я (улыбается) сказал, чтобы мне жена была доставлена на дом на автомашине, со всем имуществом. Мне не надо было ухаживать за ней, ничего не надо было делать. Ну что тут скажешь? Сильно упростил НКВД мою жизнь. Если бы всем жен привозили, да еще с имуществом, как бы хорошо было, правда?!
Вера Михайловна: Мы поженились. Нет, чтобы еще подождать, и ничего бы тогда не было. 24 мая поженились, а 22 июня началась война.
Борис Викторович: Просто, когда Гитлер узнал, что мы поженились, он понял — пора!
Вера Михайловна: На нашей свадьбе мы пили одно шампанское.
Борис Викторович: Да, это было здорово! Всем, кто хотел к нам прийти, я сказал: "На свадьбу никаких подарков не приносите (мы же все были голодранцы), но все должны принести шампанское. Ни водки, ни сухого вина у нас не будет, только шампанское". А еще сказал так: "Шампанское, купленное в разных местах, одно после другого не пьется, будет невкусно. Нужно, чтобы оно было одной партии, одного завоза, одного дня выпуска и так далее. Поэтому собирайте деньги и покупайте все сообща".
Они купили дикое количество шампанского, и мы все его выпили. Это все я придумал, не Вера Михайловна. Она бы никогда не догадалась!
Ох (смеется), и влетит мне, чувствую, сегодня вечером за это интервью!
Бернгардт: Чтоб жизнь медом не казалась... Вера Михайловна, получив немецкую фамилию, Вы для окружающих фактически стали немкой — кто там будет разбираться, русская Вы по паспорту или нет. На еврейку Вы не похожи, значит — немка.
Вера Михайловна: Да.
Бернгардт: Практически Вы прочувствовали на себе все то же, что и немцы.
Борис Викторович: Но в паспорте у нее стояло, что она русская.
Вера Михайловна: Все равно от этого легче не было. Один раз только я попользовалась этой фамилией в положительном смысле слова — когда училась в университете на истфаке. Шла мимо консерватории, а навстречу мне профессор Редер, он у нас лекции читал по истории Древней Греции и Рима. Я с ним поздоровалась и говорю (я не сдала ему курсовую работу): "Вы знаете, профессор, я..." Он: "Помню, помню, как же, как же. Ваша фамилия Раушенбах, это значит "журчащий ручей" — краси-и-ивая фамилия. Давайте Вашу зачетку". И (смеется) тут же мне зачет поставил.
Борис Викторович: Значит, немец был. Проявил солидарность.
Вера Михайловна: Когда дочь выходила замуж, она не хотела менять фамилию. А Борис Викторович настоял: "Бери фамилию мужа, пусть у тебя будет русская фамилия!"
Борис Викторович: Правильно! Они русские, живут в России.
Вера Михайловна: Моя бы воля, я бы сохранила фамилию Раушенбах.
Борис Викторович: Нет. Потом еще посадят за эту фамилию. Не надо, я уже это все проходил. У нас все возможно в нашей Богоспасаемой Отчизне, поэтому я считаю, что береженого Бог бережет.
Вера Михайловна: А меня не уберег! Я бы была с украинской фамилией — и не имела никаких неприятностей.
Борис Викторович (улыбаясь): Да! Имела бы одни радости.
Вера Михайловна (смеясь): Только один зачет за нее и получила. А потом? Господи, вернулся — получал мало, я — вообще гроши (сами знаете, как музеи оплачивались), дети маленькие, нянька. В середине комнаты у нас висел абажур, и когда была мелочь, мы ее туда бросали. А в конце месяца мы ее оттуда выуживали, потому что нам на хлеб не хватало, на одной овсянке жили. Причем не на геркулесе (его тогда не было), а на обычной овсянке.
Борис Викторович: Хорошая была каша.
Вера Михайловна: Няньке надо было заплатить, маме он должен был послать, мы всегда ей посылали. Так что мы очень бедно жили.
А когда он только вернулся из трудармии, то в метро, поднимаясь на эскалаторе, сзади приставлял портфель или книжку, потому что брюки у него все были штопаны-перештопаны — других-то не было.
Борис Викторович: Я занимал такую красивую позу (изображает), задумчивую. И (дружный хохот) — портфель сзади.
Бернгардт: Прекрасный пример тому, что из всякого положения можно найти достойный выход.
Вера Михайловна: Конечно. Мы и не унывали, не жаловались. Наоборот, у нас всегда было весело, и друзья у нас были веселые.
Один Марк Галлай чего стоил, они с Борисом Викторовичем учились вместе в институте. Летчик-испытатель, потом стал писателем. Человек необыкновенно остроумный, веселый. Жалко — умер недавно. Последний твой одногруппник?..
Борис Викторович: Да, последний. Наша студенческая группа кончилась...
В общем, довольно весело прошла жизнь. Я вот, например, вообще себе не представляю, как бы это я жил в деревне. Каждый день пахал, сеял, пахал, сеял... И ничего не происходит — не сажают, не высылают, не награждают, не наказывают. Ничего. Этого у меня не должно было быть. Я все испытал. И вверх и вниз летал очень высоко — ух-ух!
Вера Михайловна: Раз — по шее!
Борис Викторович: Раз — еще куда-нибудь поддадут, и я лечу вверх ногами. Плюхаюсь где-то, а там, оказывается, кисель...
Вера Михайловна Раушенбах: Нормальную жизнь мы прожили, хорошую, интересную. Трудную? Ну и что, что трудную. Во всяком случае, "новым русским" я не завидую.
Эдуард Бернгардт: Влад Листьев однажды, говоря о "новых русских", усмехнулся и продекламировал: "Златая цепь на дубе том..."
Борис Викторович Раушенбах (смеясь): Замечательно.
Конечно, было много всякого, но мы относились к этому всегда с известным юмором. У нас никогда не было трагического настроения в семье, потому что у меня была твердая уверенность, полученная в результате жизненного опыта, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Какое бы ни было со мной несчастье, всегда считал, что это хорошо, потому что дальше будет здорово, а если бы этого несчастья не было, то в скором времени разыгралась бы самая настоящая трагедия.
Началось это с моего поступления в институт (Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота — прим. автора), туда принимали по анкетным данным. Я бы не поступил — у меня рабочий стаж был маленький. Я всего один год проработал, а надо было 5 лет. Тем не менее удалось с помощью, как сейчас говорят, блата все-таки поступить. Но: "Партия лучше знает, что надо делать!" — такой был тогда лозунг. Я подавал на самолетостроение. Это то, чем я всегда пытался заниматься. Однако комиссия решила, что я должен идти на аэрофотосъемку. Я был зачислен, но не туда, куда хотел.
А потом нам сказали, что мы все должны пройти медкомиссию. Аэрофотосъемка — это же летная специальность. Комиссию я не прошел по глазам. У меня прооперированный левый глаз, и по правилам меня нельзя было пропускать.
Но когда в институте получили сведения о том, что меня надо отчислять, как негодного по здоровью, то начальник факультета решил этого не делать. Почему? Я был отличником, так что мое отчисление сразу понижало средний бал. Шло соревнование между факультетами, и ему это было невыгодно. И он сказал мне: "Плюнь ты на это и ходи на занятия!"
Итак, меня отчислили, а я продолжал ходить. Отчислили на "переговорном", "переписочном" уровне, потому что приказа по институту не было. Его должен был готовить начальник факультета, и он, получив бумагу, что меня надо отчислить, сказал: "Хорошо!" Но не отчислял, и скоро все про это забыли. Действительно, кому это было нужно? Комиссия была собрана на месяц, потом она разошлась, а я продолжал ходить.
Ходил, ходил, но все время страдал, что я на аэрофотосъемке. Правда, я еще тяжелее переживал, когда меня отчисляли. Понимал, что если меня отчислят из института, то все погибло окончательно. Я хотел работать в авиации, а в Ленинграде это был единственный авиационный институт. В общем, настроение было ужасное. Мне как-то случайно удалось "скользнуть на крыло" и выползти — меня не отчислили.
Прошел год, я по-прежнему хотел на самолетостроение. И вот как-то договорился, что я к ним перейду. Но так как на факультетах были разные учебные планы, то меня брали только, если я досдам в зимнюю сессию такие-то дисциплины. Я засел, никогда так не занимался, и досдал все. Подаю заявление с просьбой перевести меня с аэрофотосъемки на самолетостроение. Там меня готовы взять, а эти не отпускают — снижу им средний бал. Я по своей манере хожу от одного начальника к другому, более высокому, пока какой-нибудь дурак не решит вопрос.
Захожу к очередному начальнику, говорю, что хочу то-то и то-то. Он посмотрел на меня — и к секретарю: "Личное дело!" Секретарь кладет ему на стол мое дело. Тот смотрит, его морда становиться красной: "Как, не годен к летной службе?! Гнать Вас в шею надо!" Я страшно обрадовался — это было именно то, что я желал. Он тут же подписал мне все бумаги, и я перешел на самолетостроение.
Так что если бы не было несчастья, когда меня забраковали и я переживал, чуть не плакал, я бы не перешел на самолетостроение и страдал всю жизнь. Вот Вам доказательство — несчастье помогло. Мои страдания превратились в радость.
Бернгардт: Вы выстрадали эту радость.
Борис Викторович: Да, страдал и получил право на радость. Именно то, что человек был в жутко страдательном положении, сработало в положительном направлении. Так что я сейчас очень спокойно отношусь к разным неприятностям, зная, что это способ дать мне через некоторое время большую положительную эмоцию.
Вот, например, я страдал, конечно, когда женился на Вере Михайловне, но надеюсь, что еще будет положительная эмоция (общий хохот). Еще есть время, дорогая...
Бернгардт: В Москву, как я понял, Вы переехали еще студентом?
Борис Викторович: Я сдал все экзамены экстерном. А в Москву переехал по очень простой причине: я заканчивал авиационный институт, но в Ленинграде нет авиационной промышленности. Там было одно жалкое КБ при каком-то ремонтном заводе, но что можно делать на ремонтном заводе?! И если я хотел работать в авиапромышленности, то надо было переезжать в Москву. Поэтому я уцепился за своего школьного приятеля, который переезжал в Москву, и поехал вместе с ним.В Москве я попал к Королеву, это целая история. Мне повезло, в некотором смысле. Был ряд случайностей, но жизнь вся состоит из таких случайностей. Когда я ехал в Москву, то не знал, что буду работать с Королевым. Хотя я был формально с ним знаком, мне и в голову не приходило, что я к нему попаду.
Вера Михайловна: К Королеву он попал, потому что оба занимались планерным спортом и там встречались.
Бернгардт: А Королев — это уже была "марка"?
Борис Викторович: Нет, никакой "марки" не было. Тогда это был сомнительный молодой человек, которого посадили в 38-м году. Я поступил к нему летом 37-го и проработал год до его посадки. А потом у него работал после моего возвращения из лагеря. Но это уже другая история.
Бернгардт: Вы сказали, что у Вас были случаи, когда неприятности в конце концов оборачивались удачами, но привели только один такой пример. Не могли бы Вы вспомнить другие подобные случаи?
Борис Викторович: Сейчас я так сразу не вспомню, но у меня это было много раз, и я давно усвоил, что неприятности, как правило, означают что-то хорошее.
Бернгардт: Так что переживать не стоит?
Борис Викторович: Переживать не стоит, потому что тебе крупно повезло, как выяснится через год. Это первое. И второй способ, который у меня имеется, — я для этого держу при себе жену, это одна из причин, по которой я не развелся...
Вера Михайловна: Тебя серьезно спрашивают!
Борис Викторович (смеясь): А это серьезный ответ. Потому что, когда что-то может случиться, она это чувствует за сутки. И наоборот, когда я как-то пришел домой совершенно разбитый, понял, что все кончилось и я завтра вешаюсь, она сказала: "Ничего не будет, я бы почувствовала". И точно — ничего не было.
Вера Михайловна: Он примчался с завода с вытаращенными глазами: надо немедленно эвакуироваться!..
Борис Викторович: Эвакуация — это вообще особый случай. А тем более московская паника 16 октября 41-го.
Вера Михайловна: Надо было что-то делать, куда-то уезжать. Я сказала: не надо, мы уедем через неделю.
Бернгардт: А почему паника была именно 16 октября?
Борис Викторович: 15 октября немцы так близко подошли к Москве, что они уже практически были в пригородах, в дачных поселках: Кирсановка и так далее. Если бы они знали, что никого нет впереди, кроме милиционеров... Не было ни войск, ничего. А они думали, что перед ними войска.
Было дано указание — кто его дал, не знаю: "Всех ценных людей немедленно вывезти из Москвы". Людей, которые могут представлять ценность для государства. И небезызвестный Костиков, который представлял такую ценность по мнению начальства, потом рассказывал, что к нему ночью пришли и сказали: немедленно в машину — и на Красную площадь. Водитель, узнав, что надо ехать куда-то дальше, отказался, потому что семья оставалась в Москве. Тогда ему дали военного водителя, собрали всех где-то в районе Красной площади и оттуда целой колонной двинули в Горький. Это была единственная дорога, еще не перерезанная немецкими войсками. Надо было срочно сматываться, и все начальство в ночь на 16 октября исчезло из Москвы.
Мы встали 16-го, позевывая, и пошли на работу. Приходим — там никого не пускают. Все заводы закрыли, все было закрыто. Это же глупость, провоцирующая панику! Такие вот дураки были у нас в Моссовете. Завод закрыт, по территории курсирует несколько человек для подготовки к взрыву. Ходят военные с нашими специалистами, отмечают всё ценное, чтобы его подорвать, а неценное — оставить. Раз подрывники ходят — понятно, дело идет к оккупации Москвы.
Тогда была карточная система, и вдруг объявляют, что будут выдавать продукты не по карточкам, а по корешкам от этих карточек. Все побежали. То есть власти старались все раздать населению.
Вера Михайловна: Давали по 30 килограмм муки...
Борис Викторович: Конечно, это вызвало паническое настроение. Никто не мог понять, что происходит. Но паниковало, в основном, начальство. А народ, надо сказать, не паниковал, а удивлялся глупости.
По радио передают какую-то музыку. И вдруг: "В 15 часов слушайте специальное сообщение Моссовета..." Народ встрепенулся: сейчас нам что-то скажут. И вот передают (точного содержания не помню, но звучало примерно так): "По поступившим сообщениям, некоторые бани закрылись, а парикмахерские перестали работать. Моссовет считает, что это безобразие, и постановил открыть все парикмахерские". (Общий хохот.) Вот Вам и "специальное сообщение"!
Потом мы снова пошли на работу. Готовили завод к эвакуации, складывали вещи — что брать, чего не брать и так далее. Это 17-го. А 16-го было такое, что...
Бернгардт: Так вы собирались бежать?
Борис Викторович: Мы-то? Само собой. Все собирались бежать, и мы тоже складывали рюкзаки с моей половиной.
Бернгардт: А Вера Михайловна сказала, что рано?
Борис Викторович: Говорить-то говорила, а рюкзак складывала.
Вера Михайловна: Конечно, вещи сложили. Я стояла в очереди за этой мукой, а он пришел: "Знаешь, меня могут не сегодня-завтра..." Я и говорю: "Мы поедем 23-го".
Борис Викторович: Уже 17-го был наведен относительный порядок. Заработали учреждения, стали планово эвакуироваться.
А 16-го была просто паника, устроенная начальниками. Это какими же надо быть дураками, чтобы рвануть из Москвы и закрыть все учреждения и предприятия, ничего не объяснив народу! Говорили только: приходите в 3 часа, будет зарплата и отпускные. Но через день-два этот ажиотаж стих.
Не было у немцев сил взять Москву. Они, может быть, и взяли ее, если бы знали, что впереди нет никого. А потом подбросили подкрепления, и Жуков взял все в свои руки. Как раз в это время, числа 18-го, было принято решение назначить Жукова командующим обороной города Москвы.
Бернгардт: А было ли какое-то известие, может быть, слухи о том, что немцев забирают?
Борис Викторович: Немцев высылали из Москвы, только не 16 октября, а еще в сентябре, и делала это милиция.
Я слышал о том, что нас высылают, и взял у себя на работе командировку в ЦАГИ. Для командировки туда нужен допуск, и я получил его, но ни в какой ЦАГИ не поехал. На кой черт мне туда ехать, тем более, что он уже был в Новосибирске?! Но формально командировочное удостоверение у меня было.
Когда меня хотели отправить, повели в милицию и спрашивают: "Вы немец?" Я говорю: "Да, немец. Вот моя справка". Справка о том, что я имею допуск к совершенно секретной работе. Они обалдели. Что делать? Высылать? А может, я очень важный человек, и от меня зависит оборона Москвы? Побежали к начальнику, он сказал: "Отпустите, но зарегистрируйте!" Меня зарегистрировали и отпустили. И немцы, которых в тот момент высылали, смотрели на меня с завистью. Говорят, потом опять пытались меня найти, но я уже был в эвакуации.
Таким образом, я спокойненько дожил до эвакуации. И там сначала было все нормально — до отправки в лагерь.
Бернгардт: А Валентин Эдуардович Раушенбах даже до 44-го года в Москве прожил. Он преподавал в институте иностранных языков.
Борис Викторович: Для меня это загадка. Может, у него было какое-то особое разрешение?
Бернгардт: Есть данные НКВД, что порядка полутора тысяч немцев (включая членов семей) остались в Москве.
Борис Викторович: Я вполне допускаю это. Меня ведь тоже из Москвы не высылали и никаких акций национального плана со мной не производили, за исключением того, что забирали в милицию и снимали анкетные данные.
Бернгардт: А Ваша мать?
Борис Викторович: Матери повезло в том смысле, что она была с дочерью. А дочь — геолог, и ее отправили на Алтай.
Вера Михайловна: Его сестра была замужем за Андреем Миклухо-Маклаем, он был на фронте разведчиком. Это один из потомков Николая Николаевича Миклухо-Маклая. А Кара оставалась в Ленинграде с мамой и маленьким сынишкой, который родился в 40-м году. Началась блокада Ленинграда, и им там пришлось очень плохо. Мужу дали два дня отпуска, и он пробрался в блокадный Ленинград.
Борис Викторович: Это уже было весной 42-го, а тяжелую зиму мать провела там, в Ленинграде.
Вера Михайловна: Андрею удалось через Ладожское озеро отправить жену с сыном и матерью на Алтай, но не как немцев, а как семью геолога.
Борис Викторович: Да, сестра не была репрессирована.
Бернгардт: Это естественно, поскольку ее муж был русский (Тем не менее Карин Викторовна Раушенбах была выслана в Сибирь именно как немка — прим. автора).
Вера Михайловна: Другое дело, когда они вернулись. Маму долго не прописывали, квартиру отобрали, все было занято, некуда деваться. В это время вернулся с фронта Андрей. Хлопотать было трудно, потому что везде большие очереди, все возвращались в Ленинград. Всё разбомбили. Квартиру им все же дали, но было туго.
Бернгардт: Мать, наверное, так нелегально там и жила?
Вера Михайловна: Она долго нелегально жила.
Борис Викторович: Андрей пытался представить ее эстонкой, ведь она родом из Эстляндии. Затребовали документы в подлиннике, а там имя было написано на эстонский манер, и получалось, что она эстонка. Мол, ее по глупости записали немкой, а вот вам подлинные документы. В общем, это было очень тяжело.
Потом от нее в конце концов отстали — старуха, что с нее взять? Занималась огородом — деятельная была, старалась помочь по хозяйству...
Эдуард Бернгардт: Борис Викторович, в трудармию Вы попали в 42-м году?
Борис Викторович Раушенбах: В марте месяце.
Вера Михайловна Раушенбах: В Свердловске, куда нас эвакуировали, Борис Викторович работал в институте. Но потом, видимо, эта трудармейская волна дошла и до Урала, и подобрали тех, кто там был.
Борис Викторович: Именно "добрали остатки". Раньше отправляли организованно, большими массами, а тут отдельных людишек собирали. Подчищали.
Вера Михайловна: В трудармию попали и те, кто на Урале в то время жил. Тот же Пауль Рикерт. Директор Свердловского театра оперы и балета. Они все туда попали в марте 42-го года.
Бернгардт: Для трудармии это обычный срок. Отца моего забирали в трудармию с Алтая в феврале 42-го. Было как бы три этапа репрессий. Первый — депортация из мест проживания в Сибирь и Казахстан, второй — "мобилизация" в трудармию (с января-марта 42-го) и третий — переселение оставшихся после "мобилизации" членов семей на Север летом 42-го года. Как назывался лагерь, в который Вас забрали?
Борис Викторович: Забирали меня, я бы сказал, очень грамотно. Никто не арестовывал, не хватал за шиворот. Вызвали по повестке в военкомат. Шла война, повестка в военкомат — явление естественное. Там сказали: "Все в порядке", посадили на нары. Это был, можно сказать, пересыльный пункт в военкомате. Люди после ранения приходили, из них составляли группы для отправки на формирование. Ну и я сидел с этими фронтовиками. Заметил каких-то странных людей с немецкими фамилиями, но не придал этому значения.
Потом нас собрали, посадили в один вагон и повезли. А что можно было сделать? Военкомат ведь. Как на войну послали: стройся, выходи, садись. Ехали часа четыре. Вылезли — стоят грузовики. Нас посадили — и в путь. Куда? А кто его знает. Жизнь солдатская — начальство знает, куда везти. Привезли к какому-то дому, высадили, сказали: "Здесь будете жить".
На этом вся галантность закончилась. Никто нам ничего не объявлял, никто не предупреждал. Просто привезли и выгрузили. Никакого ареста и всяких ужасов, с ним связанных, не было. Но когда высадили, то выяснилось, что мы попали в "зону". А в "зоне" были лагерные порядки. Вызвали в военкомат, а попали в лагерь НКВД.
Они еще толком не знали, что делать с нами, и обращались точно так же, как с заключенными. Тагиллаг — это несколько лагпунктов, где сидели 58-я статья, бытовики, в общем — все, и мы в том числе. Но непосредственно в нашем лагпункте мы были одни, только немцы. А где-то за километр находилась "зона", где сидели воры, дальше — "зона", где была 58-я, и так далее.
Нас привезли в пустой лагерь, и мы его заполнили. Все вместе называлось "Тагиллаг", а мы — "Стройотряд № 1874". Лагеря с другими номерами находились как в Тагиллаге, так и за его пределами, и, судя по нашему номеру, таких лагерей было много.
В Тагиллаге было несколько лагерей с немцами. Народ-то говорил, мы слышали. Наш лагерь, потом рядом, от нас километра два, другой. Каждый лагерь обслуживал какое-то предприятие. Мы были при кирпичном заводе, а пару километров от нас находился карьер по добыче камня — "Зайгора", там была своя "зона".
Я не берусь сейчас всесторонне оценивать, но это была большая и хорошо организованная система лагерей. Все было в полном порядке, все отлажено. Единственное — кормили нас хуже, чем заключенных. В списках на продовольствие сначала стояло начальство, потом сотрудники, потом обычные жители, потом заключенные, а потом — немцы. Так что мы жили по остаточному принципу — что оставалось, на том и жили. Но оставалось очень мало. Половина лагеря умерла от голода.
Когда я был в Бухенвальде, там показывали ужасные фотографии истощенных заключенных, умирающих от голода. И я подумал: "Удивили меня Бухенвальдом! А у нас чем было лучше?" Ничем. Единственная разница — там, может быть, нарочно убивали, а у нас не нарочно, люди сами умирали. Есть не давали, а работать заставляли.
Были дни, помню, когда мы по десять человек хоронили. Точнее, не хоронили, а складывали в яму и присыпали песочком. Был ров вырыт, в него складывали ряд, потом другой, потом следующий... Буквально в метре от лагеря.
Бернгардт: Хоронили дежурные или специальная команда?
Борис Викторович: Я не помню, кто хоронил, но это была яма, которая постепенно заполнялась, и когда дело доходило до верха, то ее засыпали и вырывали новую...
Бернгардт: Какое впечатление на Вас и Ваших сотоварищей произвел сам факт: "Я за колючей проволокой..."?
Борис Викторович: Никакого. Привезли и сказали: "Занимайте, этот барак ваш!" Мы побежали в барак, стали устраиваться на нары. Кто вниз, кто вверх. Без всяких драк, дружно все устроились и зажили "нормальной" лагерной жизнью.
Бернгардт: Есть давняя, наверное уже неосуществимая, идея — составить "энциклопедию" трудармии. Вот лагерь такой-то, статистические данные: сколько наших там было, что делали, как жили. И при этом еще рассказ какого-то очевидца, чтобы прочувствовать атмосферу.
Борис Викторович: Понимаете, Тагиллаг ведь, как я уже говорил, — это целая система лагерей, и люди находились в разных точках. Что касается нас, то мы жили на кирпичном заводе. Наши бараки — их было несколько — обслуживали этот завод. Нас никуда не выпускали. Мы знали по слухам, что где-то есть еще трудармейские лагеря, но мы там не бывали и не можем ничего о них сказать.
А у нас было так: утром вставали, завод прямо тут же, общая территория. Там даже особой колючки не было — мы ходили в таком виде, что удрать было невозможно.
Бернгардт: Но вы же ехали в своей одежде?
Борис Викторович: Да, но все быстро кончилось. Ходили там, одетые как черти. И никакой особой охраны лагеря не было. Были, конечно, эти самые правила НКВД. Скажем, утром вывод на работу. Полагается с конвоем, хотя у нас не было конвоира. Шли сами, по отделениям. Бригадир, проходя через проходную, говорил, что идет такое-то отделение, такой-то отряд, столько-то человек. Солдат записывал. И бригадир обязан был вернуться с таким же количеством людей. Все было, я бы сказал, по-семейному.
И никто не боялся, что мы удерем. Мы были так одеты, что идти в город немыслимо — нас бы сразу схватили: ватники какие-то странные, на ногах вместо ботинок — самодельная обувь из автомобильных покрышек. Если по улице города шел человек в обуви из автопокрышек, это сразу бросалось в глаза каждому.
Бернгардт: Зона была в пределах Нижнего Тагила?
Борис Викторович: Это окраина Тагила.
Вера Михайловна: 4 километра — столько я шла от станции.
Борис Викторович: От станции 4, а от города ближе.
Бернгардт: Сколько человек было в одном бараке?
Борис Викторович: Это зависело от того, какой барак. У нас много народу было. Может быть, сто, может, и двести человек. Спали мы на двухъярусных нарах. В комнате, где я жил, нас было что-то около 10 человек. В бараке была коридорная система — коридор и комнаты. Нам повезло, что мы попали в обычный барак, построенный в свое время для рабочих. Конечно, он был набит до отказа.
Бернгардт: А как сквозняки?..
Борис Викторович: Это зависело от наших способностей. У нас всегда было тепло. Мы же находились при кирпичном заводе, там идет обжиг. Воровали горючее. То есть не воровали, а просто брали. Возвращаясь с работы, каждый волок с собой ведерко с коксиком. Коксик — это не уголь, а значительно более высокоэффективное топливо. "Что несешь?" — "Коксик". Это все было внутри "зоны", и все знали, что коксик нужен, чтобы топить. И мы топили коксиком зимой свою комнату. У нас всегда стояло очередное ведро, так что я никаких сквозняков не знал.
Бернгардт: С теплом вам повезло. А как с насекомыми?
Борис Викторович: Вши? Там были всякие санитарные мероприятия. Самое крупное — борьба с клопами, когда нас всех выводили летом из барака. Вытаскивали все наши вещи, в том числе и постельные, что было глупостью. Потом серой обрабатывали барак и заносили назад вынесенных клопов. Из тех клопов, что оставались в бараке, часть дохла, а оставшиеся были (смеется) особенно злыми и набрасывались с удвоенной энергией. Но куда-то шел отчет об успешной борьбе...
Вера Михайловна: А других насекомых мы проглаживали раскаленными утюгами, когда приезжали. Треск стоял страшный!
Бернгардт: У вас была столовая или просто раздаточный пункт?
Борис Викторович: Столовая. Там стояли столы, каждый подходил к раздаче и получал порцию баланды или каши — в общем, что полагалось, — в свою посудину. У каждого что-то было, какие-то котелки. У одного была миска, и он этим очень гордился. Что у меня было, не помню.
Бернгардт: Питание было два раза или три?
Борис Викторович: Два.
Вера Михайловна: Утром и вечером. Если утром получали пайку и ее съедали, то до вечера ходили голодными.
Бернгардт: А пайка какая была — 400, 500, 600 грамм?
Борис Викторович: Минимальная пайка была 400, максимальная — даже 900. Но большие пайки выдавались только за крупное перевыполнение норм. ИТР, который не мог ничего перевыполнять, получал 600-700 грамм. У меня тоже было 600-700, потому что я работал не для Тагилстроя, а для другой организации, и не было оснований давать мне больше.
Пайки давались так: сначала — минимальные, потом — прибавки за перевыполнение, за работу в тяжелых условиях и так далее. Но у меня-то никаких добавок не было, я шел всегда по самому низкому для ИТР разряду.
Бернгардт: Это был обычный хлеб?
Борис Викторович: Сейчас бы мы сказали, что плохой. Он был очень мокрый. Но все такой ели, и мы тоже. Мы одно время даже пытались (потом прекратили из-за сильного голода) откладывать пайку на завтра, чтобы хлеб подсох немного и приобрел нормальный вид. Но мы эту затею бросили, съедали сразу.
Бернгардт: А еще что было, кроме хлеба?
Борис Викторович: Баланду давали, а больше ничего. Что там еще могло быть?
Бернгардт: То есть баланда на завтрак и баланда на ужин...
Борис Викторович: Раз в месяц давали сахар и кофе, но не настоящий, а ячмень поджаренный. Сахара было с полстакана или чуть больше. Мы его сыпали в кофе, смешивали, получалась такая рыжая, очень сладкая конфета. И мы их сжи-ра-ли. Кофе нам тоже давали мало. Раз в месяц мы могли делать такую штуку, но чтобы каждый день есть понемножечку? Нет! Это было такое пиршество! (Мечтательно.) Шикарное...
Бернгардт: А что из себя баланда представляла?
Борис Викторович: Что было, из того они и варили.
Вера Михайловна: "Лапшинка за лапшинкой бегает с дубинкой".
Борис Викторович: Ну что ты, какая там лапша! Лапша — это была наша лагерная мечта! Помню, Пауль Рикерт все говорил: "Если кончится война и нас отпустят, я приеду домой и скажу Наде, чтобы она сварила мне таз (знаете, такой большой, для мытья головы), целый таз лапши! Я ее с сахаром съем!" Таз лапши с сахаром — предел мечтаний!.. Обычно была какая-то очень жидкая каша. Сыпали туда что-нибудь.
Бернгардт: Перловка, пшенка, овсянка?
Борис Викторович: Что привезут, то и сыпали.
Бернгардт: То есть это был не суп, а жидкая каша?
Борис Викторович: Нет, все-таки суп, очень жидкий суп. Была ли там картошка? Как когда. В общем, что-то давали, и мы не умирали. То есть люди умирали от голода, но те, кто был на тяжелой физической работе. У меня тяжелой работы не было, но есть все время хотелось. Я думал только о еде. Ее явно не хватало, поэтому все мои мечты, разговоры, все сны были такие (смеется): "Ах!.. Пожрать бы чего-нибудь!" Это странно, но ни о чем другом я не думал.
Бернгардт: Можно сказать, что баланда — это было нечто своеобразное, со своим, всегда одинаковым, вкусом?
Борис Викторович: Да, в том смысле, что никакого вкуса там не было. Просто в кипящую воду кидали какое-то количество крупы, и все. Давали большой черпак — полная тарелка, "с краями".
Бернгардт: И ни чая, ни кофе, кроме этой "конфеты"?
Борис Викторович: Чая не было, но по утрам давали кипяток.
Бернгардт: И ни масла, ни каких-то жиров?
Борис Викторович: Иногда, когда давали кашу, добавлялся маленький черпачок растительного масла. Странное масло — льняное или еще какое-то.
Бернгардт: В Котласе, отец рассказывал, специально заваривали хвою в бочках. Эти бочки стояли перед входом в раздаточную, и пока ты кружку хвойного отвара не выпьешь, то туда не войдешь.
Борис Викторович: Этого у нас не было. От цинги мы сами варили траву.
Вера Михайловна: Я привозила всякую "химию", которую мне рекомендовал один из друзей Бориса Викторовича.
Бернгардт: Вы попали туда в марте 42-го и пробыли...
Борис Викторович: До 46-го года. Когда кончилась война, зону открыли. Разрешили снимать жилье, но нельзя было уезжать. Мы оказались в положении Ленина в Шушенском. Не имели права никуда ехать — мы были ссыльные, сосланные именно в Нижний Тагил. "Вы не можете никуда выезжать, но это отнюдь не ущемляет вас ни в чем, — сообщил нам оперуполномоченный, — вы даже можете писать поэмы!" Поэм, правда, никто не написал (смеется), но нас очень обрадовало, что теперь мы можем писать поэмы...
Бернгардт: Итак, люди работали на кирпичном заводе. Сколько часов продолжалась смена?
Борис Викторович: Никаких 8-часовых смен, конечно, не было. Шла война.
Бернгардт: 10 или 12 часов?
Борис Викторович: Точно не помню, я ведь работал на заводе только первый год. Но у нас было так же, как у всех. Там работали и вольнонаемные: половина завода — мы, половина — вольные. Вольные — это бывшие сосланные кулаки. Тем не менее, они были свободные, а мы находились в "зоне". Но работали все вместе, а смена начиналась и кончалась, как ей и полагалось. Не 8 часов, а где-то 10 или 11. Это было одинаково для всех и не могло быть по-другому по технологическим причинам. Одни придут, а другие нет? Это невозможно.
Бернгардт: А чем занимались после работы?
Борис Викторович: Тут каждый делал, что хотел. Наша комната была такая... высокоинтеллектуальная — мы занимались в основном, я бы сказал, мозговой деятельностью. Часть играла в карты, домино (я считаю, что это тоже умственная работа, там ведь все-таки думать надо, а не просто размахивать кувалдой). Я учил немецкий язык, именно в лагере научился настоящему немецкому. Мой лучший друг в лагере, Пауль Рикерт, родился в Берлине и был доктором Берлинского университета. Я у него учился языку. Мы с ним договорились меж собой: "Раз нас посадили как немцев, так давай не будем ни слова по-русски!" И мы 4 года говорили только по-немецки. Я знал немецкий, но "домашний": "Как суп, вкусный? Когда ты придешь из школы?.." Бытовой разговор. А говорить о литературе, о науке я научился в лагере у этого берлинца.
Вера Михайловна: Там совершенно разные люди были. Были рабочие, крестьяне с Поволжья, и был очень интеллектуальный народ. Был директор Свердловской оперы и балета, был Пауль Эмильевич Рикерт, был профессор Московского университета Отто Николаевич Бадер, был художник, был химик Армин Генрихович Стромберг и так далее. То есть там собралась группа интеллигентов.
Вы спрашиваете о досуге, так они друг другу читали лекции: Бадер — по археологии, Борис Викторович — о будущем освоении космоса, Рикерт — химик, страстно увлекающийся минералогией, рассказывал об этом. Те работали все вместе, на кирпичном заводе, а Борис Викторович сидел в бараке над своими отчетами. А вечером, когда они освобождались, то читали друг другу лекции по своей специальности. Это была такая своеобразная Академия.
Бернгардт: Все случайно оказались в одной комнате?
Борис Викторович: Люди подбирались более или менее случайно. Мы ведь, когда приехали, не знали друг друга. Но в наших комнатах жили одни итээровцы — люди, занимавшие инженерные должности. То есть какой-то культурно-образовательный уровень у нас был. А на других этажах, в соседних бараках жили простые рабочие, крестьяне, которые часто даже плохо говорили по-русски. У них были свои интересы, и лекций они друг другу, конечно, не читали.
Бернгардт: И такой настрой сохранялся до...
Борис Викторович: До самого конца. Настрой такой был: вести себя достойно в недостойных условиях.
Бернгардт: И через месяц, через два, через год?
Борис Викторович: Что-то менялось, но несущественно. Временами кормежка была получше, иногда что-то разрешали, потом запрещали. Но настрой оставался именно такой.
Бернгардт: Я это к тому, что, скажем, у моего отца в трудармии была одна проблема — выспаться. У них просто не было времени чем-то заняться на досуге. Если была возможность, то человек спал.
Борис Викторович: Может, у нас в соседнем бараке то же самое было. А в нашем было, я бы сказал, "нормальное" заводское общежитие. Комната, в ней 8 или 10 человек ИТР. Приходили со смены (процесс был непрерывный, нельзя остановить огонь в печи), ложились спать. Мы старались спящим не мешать, но, в основном, все работали днем, а ночью спали, и никаких особых проблем со сном не было. Если хотелось спать, надо было просто раньше лечь.
Мы привыкли засыпать в любых условиях. Я, например, спал на кровати, к которой был вплотную придвинут стол. За этим столом играли в домино. Я ложился спать, а они стучали, и мне было совершенно все равно.
Бернгардт: Для лекций нужны письменные принадлежности — бумага, карандаши.
Борис Викторович: Это все было из дому. Жены привозили, еще как-то доставали. Лагерь ничего не выдавал.
Лекции были раз в неделю или в две недели. Как подготовимся. На всех наших сборищах должен был присутствовать оперуполномоченный. Собрались заключенные и о чем-то говорят! Может, они там антисоветские разговоры ведут?! Он сидел, записывал и убеждался, что мы антисоветской пропаганды не ведем и Сталина убивать не собираемся. Может, ему даже интересно было, кто его знает.
Вера Михайловна: Однажды рассказывали, как Отто Николаевич Бадер что-то ляпнул и ты его выручал.
Борис Викторович: Да ерунда!.. Человек делал доклад о старинных временах начала тысячелетия. Тогда, в частности, в Крыму жили готы, и он об этом сказал, а готы — в каком-то смысле немцы. И пошло: "Как так, немцы в Крыму жили?!" Это был, конечно (дружный хохот), криминал. И я потом оперативникам объяснял, что, во-первых, он вечно путает все, а, во-вторых, готы — все-таки не немцы. Подробностей уже не помню, но я им объяснил, и они успокоились. Там таких смешных вещей из области "нарочно не придумаешь" было очень много.
Бернгардт: Вы тогда смеялись?
Борис Викторович: Конечно! Господи, да у нас было очень весело, мы очень много смеялись. Давно замечено: когда человек попадает в тяжелые условия, он много смеется. Это такая защитная реакция организма.
Бернгардт: Было у меня однажды очень тяжелое интервью с трудармейцем Иоганном Гинтером про строительство плотины в Краснотурьинске. Они там вообще не разговаривали. Только приказания сверху — и все. Ходили молча с работы, на работу. Это потом уже, после войны, потихоньку...
Вера Михайловна: Мне говорил Стромберг, что если бы не своеобразный характер Бориса Викторовича, не его оптимизм, было бы гораздо трудней. Больше всего он их и держал на уровне.
Борис Викторович: Оптимизм мой заключался в том, что я им сказал и постоянно это проповедовал: в Советском Союзе каждый приличный человек должен несколько лет отсидеть в тюряге. И приводил примеры — вот Туполев сидел, вот такой-то, смотрите, тоже сидел! А чем мы хуже? Мы тоже должны свое отсидеть! Я им это очень хорошо объяснял. Они даже говорили, что меня надо пустить агитатором по всем лагерям.
Вера Михайловна: Опять же немцы, война с Германией...
Борис Викторович: Я им так и говорил: "Что вы хотите? Так и должно быть. Все о'кей!" Я не воспринимал это как трагедию, нет.
Бернгардт: Не было чувства, что вас предали?
Борис Викторович: У меня лично не было. У меня, в общем, было хорошее настроение.
Бернгардт: Какое-то время Вы все-таки отработали на кирпичном производстве?
Борис Викторович: Да, но мне повезло. Я работал в отделе технического контроля, а это не физическая работа. Я принимал кирпич, сортировал его и так далее. Тоже довольно тяжело, потому что кирпичи надо подымать, а они, сволочи, оказывается, тяжелые, если все время этим занимаешься. Но, конечно, это не то, что работать в забое или на обжиге, так что я довольно легко отделался.
Бернгардт: И сколько Вы там проработали?
Борис Викторович: Между полугодом и годом — это все постепенно происходило.
Бернгардт: Судя по Вашей книге "Пристрастие", Вы в лагере получали особые задания?
Борис Викторович: Да, была устроена такая липовая ситуация. "Липовая" вот в каком смысле. Был такой генерал Болховитинов, крупный в свое время авиаконструктор, которого любил Сталин, хотя все его конструкции погибали. Леваневский, знаменитый летчик, погиб на его самолете, когда летал через Северный полюс. Короче говоря, ему жутко не везло, а человек он был добрый и существовал, можно сказать, хорошо.
И вот он решил, что после войны я буду работать у него. На то были основания: его заместитель знал меня по ученым трудам и сказал: "Он нужен нам". Болховитинов согласился. В общем, они стали меня опекать с тем, чтобы потом забрать к себе. Эта их опека существенно улучшала мое положение в лагере.
Бернгардт: Основную роль сыграл отчет, который Вы отправили им из лагеря?
Борис Викторович: Отчасти, да. Они убедились, что я могу что-то делать, и считали нужным мне помогать. Народ шел на работу, а я оставался в бараке и писал, считал, готовил отчеты, которые отправлялись официально, через управление лагеря.
Я не очень-то нужен был Тагиллагу. Одним человеком больше, одним меньше, а там тысячи людей работали. Не будет 1001-го — и черт с ним! Был бы я незаменим, они бы за меня схватились. А поскольку я был простая рабочая сила — ну раз кому-то надо, пожалуйста! Эти авиационные фирмы платили за меня Тагилстрою. Мне формально шла какая-то зарплата, а им шли деньги (смеется) за аренду меня.
Вера Михайловна: Как сейчас арендуют спортсменов.
Борис Викторович (смеется): Продавалась рабсила, и за нее платили. Регулярно переводили деньги на счет Тагилстроя. Они с меня имели то, что надо, — так бы я работал где-нибудь в забое и тем приносил пользу Тагилстрою, а тут они деньгами получали.
Бернгардт: И даже зарплата выплачивалась?
Борис Викторович: Что-то перечислялось на счет. Говорили, что в конце войны получим. Можно было снимать со счета и отправлять домой, что я и делал.
Бернгардт: А сколько посылок можно было получать?
Борис Викторович: Это не ограничивал никто, но я посылки получал редко. Я уже говорил, что как-то сестра с Алтая, где они были с матерью, прислала. Это было большим подспорьем.
Вера Михайловна: И мы ездили. Меняли тряпки на хлеб и везли.
Борис Викторович: Да, но я говорю про посылки. Жены тоже приезжали, привозили.
Бернгардт: Какое-то официальное разрешение на посещение нужно было?
Борис Викторович: Формально, конечно, договаривались. Я просто ставил в известность — никто же не запрещал.
Вера Михайловна: Поскольку, с точки зрения Бориса Викторовича, его высшего образования было недостаточно, он захотел пройти университетский курс по математическому факультету. Поэтому я таскала ему хлеб в рюкзаке и целый чемодан книг. Раза два в месяц к нему ездила, меняла свои оставшиеся тряпки. Их, правда, не так много было, мы ведь из Москвы неожиданно уехали. Из Свердловска поезд шел 4 часа. Приезжала в 4 утра и шла туда.
Бернгардт: Там конвой проверял?
Вера Михайловна: Конвоя не было. Просто пропускали — и все. К Бадеру приезжала Мария Александровна, к Рикерту — Надежда Леонтьевна, к Владимиру Федоровичу Рису — его супруга Надежда Дмитриевна. Мы вместе с ней приезжали. Владимир Федорович был очень интересный человек. Он работал в Ленинграде и даже, сидя в "зоне", получил Сталинскую премию.
Борис Викторович: В Ленинграде был институт, который занимался воздуходувкой турбинного типа для энергетики. Рис был там крупным научным работником. Премию дали группе, и когда подавался список, Рис еще был там, а когда присудили премию, то уже сидел в лагере. На основании этого его раньше оттуда выцарапали, сразу же после войны.
Бернгардт: А вы не обсуждали между собой, где, скажем, находятся академики Шмидт или Ферсман?
Борис Викторович: Нет, мы были не в курсе дела. Вот, например, Кренкель. Его неудобно было сажать — с Папаниным на льдине вместе плавали. Был Шмидт, были и другие. Некоторый процент немцев — то ли по недосмотру НКВД, то ли еще по каким-то причинам — вовремя не схватили, и они так и остались. С одним из них я говорил. Ему сказали: "Сиди и молчи, что немец! Не пикни и вида не показывай — иначе тебе плохо будет!" Поэтому они все и сидели, затаившись. Шмидта, конечно, нельзя было взять просто так — слишком известная личность. Его можно было посадить только с разрешения Сталина. Или тот же академик Ферсман. Таких они не трогали.
У нас даже был такой случай. Представьте: три брата, один был с нами в лагере. Он был летчик гражданского флота, летал в Сибири на местных авиалиниях. Другой брат был профессором Московского университета, и его не трогали. Третий брат летал на фронте и получил четыре ордена Красного Знамени. Его не представляли к Герою, поскольку боялись, что им влетит, — немец. Ему об этом прямо говорили. Фамилия у них была Гептнер.
Вера Михайловна: Да, Гептнер. Между прочим, ваш Гептнер был женат на Танечкиной тетке — Вере Павловне Левашовой.
Борис Викторович: Я этого не знал. Видите, как мир тесен. К сожалению, он умер от рака. Он знал, что умирает, и приехал к нам в Москву после войны как бы прощаться. Вид у него уже был нездоровый...
Бернгардт: И парторганизация в лагере была?
Борис Викторович: Была. Все эти члены партии были коммунистами до посадки. Их не исключили, и они даже собирались за колючей проволокой. Это (смеется) смехотворно, такое только у нас возможно. Но кандидаты не переводились в члены партии, так и оставались вечными кандидатами, и в партию в лагере вступить было нельзя. Тот, кто уже вскочил в поезд, мог ехать дальше, но — не высовываться! Да, это было смешно... Партсобрания проходили, какие-то решения принимали.
Бернгардт: А комсомольцы?
Борис Викторович: С комсомольцами было проще. По прошествии нескольких лет они выходили из возраста и автоматически исчезали из комсомола. Так что партийцы собирались, комсомольцы — нет. Поелику все понимали, что пока сидят — их возраст выйдет.
Бернгардт: Смерти были, в основном, от голода?
Борис Викторович: От комбинации — голод и непосильная работа. Если бы не было такой тяжелой работы, — на кирпичном заводе, в забое или на лесоповале, — они, может быть, и выжили. Но при той работе, которая у нас была, они выжить не могли. Это продолжалось примерно полгода. Когда вымерла половина лагеря, в Москве схватились за голову: "А кто будет работать?" Стали лучше кормить — стали меньше умирать.
Бернгардт: Полгода — это с начала 42-го?
Борис Викторович: И до середины 42-го.
Было видно по месяцам, сколько умирало, и мы от нечего делать даже вычислили, когда все умрем. Все-таки мы были (смеется) инженерные работники, интересно было проводить разные исследования. И так бы оно и было, но в Москве спохватились...
Бернгардт: Есть теория, связывающая перемены в трудармии к лучшему с положением на фронте.
Борис Викторович: Думаю, это только теория. Кому какое было дело — лучше на фронте или хуже? В Москве сидит начальство, которое отвечает за то, что будет срочно построена домна. Вдруг ему докладывают, что строить некому — половины уже нет. Что оно делает? Начинает добавлять жратву. Люди перестают умирать и достраивают домну. То, что там на фронте, нас никак не касалось, а вот жратва и работа были связаны напрямую. Так что тут все просто.
Бернгардт: Качество еды для всех было одинаковым?
Борис Викторович: Да, только количество разное. Одно — ИТР, второе — служащим, третье — рабочим. ИТР не всегда были на первом месте. Больше обычно получали люди, которые были заняты физическим трудом, и это разумно. Потому что им вкалывать надо, а мы-то сидим. Но все-таки у ИТР считалось больше. Обычная пайка была, к примеру, 500 грамм, нам давали 700. Это я примерно говорю. Но рабочим, перевыполняющим норму, конечно, давали еще больше. И правильно! В этом смысле у нас обид не было.
Мы собирали всякие травы, варили из них какую-то бурду и пытались есть. Это было невкусно. Тогда брали эту траву, резали ее, всыпали в нашу баланду. И это наполняло желудок больше.
Бернгардт: Скажем, крапиву...
Борис Викторович: Ну, крапиву! Крапива — это деликатес! Там была горка, и мы на ней собирали траву. Мы ее называли "дурацкая трава". Набивали животы... В общем, ненормальная была жизнь.
Те, кто был на тяжелых физических работах, особенно первое время, все умирали. Когда в Москве спохватились, стали приходить указания, чтобы сохранить рабочую силу. С одной стороны, стали нас чуть лучше кормить. С другой стороны, тех, кто дошел до такого состояния, что уже не мог работать и должен был умереть, собрали вместе в специально организованный отряд. Их работа состояла только в том, что они ходили в лес собирать грибы. Их пытались подкормить, чтобы потом опять включить в настоящую работу. Этот отряд назывался ОПП. Что это такое, никто из нас не знал (Оздоровительно-профилактический пункт — прим. автора). Мы (смеется) этот отряд называли "Отрядом Предварительного Погребения". (Долго не может остановиться от смеха.)
Бернгардт: Кто-то восстанавливался?
Борис Викторович: Кто-то выживал, но большинство умирало. У комиссии, которая направляла в ОПП, был очень простой критерий: лагерник подходит, поворачивается задом и спускает штаны. Если не видно, простите, анальное отверстие, то он еще может работать. Если видно — значит истощен. Это называлось "верблюжий зад": от задницы уже ничего не осталось, как у верблюда. Когда половина перемерла, настала у нас такая цивилизованная (мечтательно) лагерная жизнь — с врачами и еще черт знает с чем. Вот тогда и появилось понятие "верблюжий зад"...
Да, есть что вспомнить. Но как-то удивительно, что, когда сейчас вспоминаешь, вспоминается все только как некий цирк. Никаких эмоций — положительных, отрицательных — нет. Где-то это все уже отговорило, перегорело. Я сейчас рассказываю — как будто это с кем-то другим происходило.
Бернгардт: В этом, наверное, и было ваше спасение.
Борис Викторович: Наверно. Если бы человек все неприятности запоминал, это была бы не жизнь. Он бы очень быстро помер, а так его организм все неприятное выдавливает из сознания. И правильно. Все прошло, ничего не поправишь. Ну было, так было, надо дальше жить.
После 45-го начались поблажки. Нас всех собрали, сказали, что мы свободные люди. Это, как я уже говорил, нам объявил наш оперуполномоченный. Собрал нас и сказал: "Можете жениться, можете писать поэмы, но ехать — никуда. Только с разрешения". Когда я ездил по делу в Свердловск, то получал разрешение. Рядом, 4 часа на поезде, но надо было разрешение.
Бернгардт: Это было приурочено к 9 мая или...
Борис Викторович: Когда пришла соответствующая бумага — тогда и объявили. Это было уже летом. А 9 мая я лично встретил таким образом. Нас собралось человека три, и мы пошли на пивзавод, потому что городские власти вытащили из лагеря одного немца, который хорошо умел варить пиво. Хотя формально он должен был находиться в "зоне", но начальство решило: "Пусть варит!" Он нам всем поставил по кружке. Вот что я (смеется) помню, вот такое у меня было празднование Дня Победы.
А в общем-то, у меня не было там таких ярких дней, о которых стоило бы рассказывать особо.
Бернгардт: Помните "Один день Ивана Денисовича"?
Вера Михайловна: "Один день Ивана Денисовича" — это лучшее, что написал Солженицын.
Бернгардт: День-то взят самый рядовой, но какое ощущение реальности! Когда я в детстве его читал, у нас дома по вечерам собирались соседи, друзья отца — все, как правило, сидевшие. Кто по 58-й, как политические, кто по уголовной, за "кражу" в колхозе — есть было нечего, кто за национальность. И они все в один голос говорили: "Вот как он пишет, так все и было!"
Борис Викторович: Совершенно верно, так все и было. Но вот чего там нет, — он, наверное, не ставил цели об этом написать, — так это юмора висельников. А без юмора жить было невозможно в тех условиях. Поэтому мы это как-то переживали и подавали в качестве театра абсурда или чего-то в этом духе. Все время пытались найти смешное в том, что происходило. Это была такая своеобразная психологическая самозащита.
Больше всего мы издевались над нашими начальниками-энкавэдэшниками. Может, они и были умными людьми, но нам казались редкими болванами. Мы как-то высокомерно о них судили. Это естественная реакция на положение, в которое мы попали.
Я не знаю, как это было у рабочего класса, у поволжских крестьян. Мы были от них очень резко отделены. Во-первых, это было связано с тем, что мы говорили на литературном языке, а они на диалектах. Поэтому они считали, что мы приехали из Германии. Они и меня, например, считали приехавшим из Германии — мы с Паулем Рикертом ходили и разговаривали на литературном немецком. А раз из Германии — значит "не наш". Не в том смысле, что плохой, а в том, что чужак. Поэтому у меня тесных контактов с “трудящимися” не возникало.
Хорошие контакты были с интеллигенцией. Я бы даже сказал, с русскими интеллигентами, которые попали туда по каким-то анкетным признакам, даже если в действительности немцами и не были. Вот Стромберг, профессор из Томска. Ему вдвойне "повезло": место рождения (смеется) — Берлин! Дело в том, что его отец и мать совершали свадебное путешествие, и в Швейцарии мать почувствовала, что она может вот-вот разродиться раньше времени. Они в панике рванули в Россию, и по дороге, в Берлине он родился.
У него была очень энергичная мать, которая умудрилась вытащить его из лагеря до того, как лагерь был распущен. Оказывается, в годы революции она организовывала на Урале высшую школу. И она написала: "Я организовала всякие институты, которые до сих пор стоят, а сына посадили! За что, спрашивается?" Кто-то там наверху сказал: "Отпустить!" А мы (смеется) всем объясняли, что Стромберга отпустили, потому что "мама попросила". Это было сразу же после войны, либо в конце войны. За него мама попросила, а за меня некому было просить.
Вера Михайловна: Там был один рыжий, который стал доказывать, что он не немец, а еврей, и его на этом основании тоже выпустили.
Бернгардт: Кстати, я такое от многих слышал. Такое впечатление, что в каждом трудармейском лагере был свой еврей.
Борис Викторович: У нас был целый ряд евреев, которым в свое время стало стыдно, что они евреи, и они еще до войны объявили себя немцами. Тогда же никаких метрик не было. А тут, прости Господи, война, их и забрали. И вот они начали доказывать, что они евреи.
Однажды меня вызвали наши энкавэдэшники. Что-то им от меня надо было узнать, какой-то лагерный пустяк. Про лекции, которые мы читали друг другу, или еще что. Они постоянно кого-нибудь вызывали и что-нибудь спрашивали. Так вот, опер называет фамилию одного нашего лагерника, смеется и говорит: "Вот он сейчас бегает и доказывает, что еврей. Наверное, и в самом деле еврей, но что ж он, сволочь такая, столько времени утверждал, что немец? Пусть посидит, чтобы в следующий раз не врал!"
Вера Михайловна: Директор Свердловского оперного театра тоже был еврей, а записался немцем и попал туда. Фамилия у него была что-то вроде Бернера.
Борис Викторович: Я забыл его фамилию, давно это было. А энкавэдэшники (смеется) говорили: "Мы знаем, что он еврей. Но пусть посидит, раз назвался!"
Вера Михайловна: Назвался груздем — полезай в кузов.
Борис Викторович: Но потом в конце концов они своего добивались. Из Москвы приходили указания, и их отпускали. Отпустили и директора оперного театра, но уже как еврея. Хотя сажали как немца.
Бернгардт: А среди лагерного начальства много было евреев?
Борис Викторович: Много. Руководство Тагилстроя было — сплошь евреи. Тагилстрой давал отсрочку от военной службы, если соответственный пост занимаешь. Скажем, директор Тагилстроя был еврей, а его сын работал там шофером, потому что шоферы имели отсрочку от призыва в армию. У них есть такое содружество — еврей еврею помогает всегда.
Вера Михайловна: И правильно делают.
Борис Викторович: Да, правильно. Но некоторые наши энкавэдэшники находили повод над этим поиздеваться. Не за то, что он еврей, а за то, что скрывал, а теперь пытается доказать, что "я не я, и лошадь не моя!"
Но это все мелочи. Бытовые мелочи, я бы сказал... Конечно, в лагере было тяжело: как я уже говорил, у нас за первые полгода умерла половина! В начале не было жилья, люди жили в мороз и стужу в неотапливаемом продуваемом бараке. Продуваемом, потому что там в нормальное время сушили кирпич и надо было, чтобы свежий воздух шел. И вот в таком бараке — не со щелями, а с огромными дырками для продува — жили люди. Единственное, что на них сверху снег не падал. А знаете, какие морозы там на Урале? К счастью, я попал туда в конце марта 42-го и эту тяжелую зиму не видел. Потом уже стало более или менее нормально: можно было бараки топить, и прочее, и прочее.
Бернгардт: А с конца войны вообще пошло послабление режима. Пока в 48-м году не вышел указ — "временную высылку считать вечной".
Борис Викторович: Это меня не коснулось, я уже тогда был в Москве...
Борис Викторович Раушенбах: У нас в России он известен как Пауль Эмильевич Рикерт, но это не настоящее, а, так сказать, партийное имя. Во время фашизма члены Компартии Германии, наряду с настоящим именем, имели еще и тайное, чтобы гестапо не могло понять, где кто. Ведь сразу после прихода к власти нацистов начались поиски коммунистов, социал-демократов и прочих врагов режима. Даже за границу надо было уезжать под другим именем, чтобы обезопасить себя и своих близких.
Настоящее его имя — Пауль Хальперн, он родился в Берлине 30 октября 1907 года. Отец его был каким-то чиновником, любителем выпить, кстати сказать. В общем, он ничего хорошего не вспоминал о своем отце. Но и плохого — тоже. Такое впечатление, что тот для него не существовал. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Он вспоминал о школьных друзьях, о каких-то делах, но не об отце и матери.
Рассказывал, что в детстве пел в церковном хоре. Не из религиозных соображений, а потому, что у него был слух, прекрасное чувство музыки и хорошо поставленный мальчишеский голос. Голос, как это часто бывает, с возрастом пропал, но с берлинским хором мальчиков он объехал всю Европу, включая Скандинавию. Поэтому он имел довольно серьезное — во всяком случае по сравнению со мной — музыкальное образование. Для меня он был величайшим знатоком музыки, хотя на самом деле это могло быть и не так.
В Берлине он окончил гимназию и поступил в университет. В студенческие годы много путешествовал по Европе. Учебу и досуг обеспечивал самостоятельно, зарабатывая репетиторством. После успешного окончания университета он остался в нем в качестве, по нашим понятиям, аспиранта и защитил докторскую диссертацию по химии, стал доктором философии очень престижного Берлинского университета.
У нас все докторские или кандидатские проходят через ВАК — аттестационную комиссию, которая следит за тем, чтобы их уровень был одинаков. А в Германии довоенной (не знаю, как сейчас) было важно — доктор какого университета? Так вот, он был доктором философии Берлинского университета, то есть очень серьезным ученым.
В Германии университеты имеют факультеты богословия, юриспруденции, медицины и философии. Самостоятельные у нас дисциплины — математика, физика, химия и так далее — там относятся к философии. Поэтому наши обычно не понимают, когда немцы говорят "доктор философии", хотя это инженер, а не философ. Но по немецким понятиям других докторов нет, со средних веков там в этом смысле ничего не изменилось.
Он защитил диссертацию и после защиты был вынужден уйти в подполье. Защищал он ее еще открыто, как Пауль Хальперн, но в подполье носил уже другое имя. Он перешел на подпольное положение сразу после прихода Гитлера к власти, потому что занимался какими-то секретными делами по партийной линии. И фашисты знали, что он не просто рядовой член компартии. Он рассказывал мне, что никогда не ночевал в одном месте два дня подряд.
Когда примерно через год подпольной жизни гестапо фактически его "вычислило" и должно было схватить, Коминтерн решил перевезти его в Союз. И поскольку тогда не было контроля на границе между Германией и Чехословакией, он сел на поезд и уехал в Прагу. В Праге он зашел в советское посольство, получил липовые документы на другое имя и под этим вымышленным именем в 34-м году приехал в СССР. Из Праги он уже ехал советским гражданином, но не отказывался от германского гражданства. Просто ему выдали советский паспорт. Это шло по линии Коминтерна, там были свои правила.
А фамилию Рикерт он получил уже здесь, в Москве. Он мне рассказывал, как пришел в Коминтерн и коминтерновские чиновники обсуждали: "Какую же тебе дать фамилию? Да у нас давно Рикертов не было!.." Это почти как у нас Петров, Иванов. Так он стал Рикертом, потому что (смеется) их давно не было. Под этим именем он жил, у него рождались дети. Они носят фамилию Рикерт, хотя фактически это псевдоним. Но кто сейчас помнит, что Ленин — это Ульянов?
Когда он приехал в Москву, его спросили, где бы он хотел работать. Химики были везде нужны, и большинство на его месте отвечали: "В Москве!" Но он с детства страстно любил минералогию, в Берлине собирал коллекцию, и вообще до самой смерти его больше всего радовали камни. Он сказал: "Только на Урал!" Потому что это минералогический рай. Он думал там собирать камни, коллекции и так далее. И его направили в Свердловск.
Итак, он приехал на Урал, получил интересную работу, в свободное время занимался минералогией. Все шло хорошо, но, как это у нас (смеется) было принято, его посадили. Где-то в 37-м, когда всех сажали. Он приехал в страну победившего социализма, чтобы вкушать свободу, а его посадили. Для порядка, чтобы знал, что такое свобода.
Но когда он был в Германии, то знал, что рано или поздно его арестует гестапо. Ну невозможно было быть подпольщиком в фашистской Германии, чтобы тебя не сцапали! И он мне рассказывал: "Я психологически пережил и арест, и допросы, и все прочее, и точно знал, как себя при этом буду вести".
Когда его арестовали в Советском Союзе, он свою психологическую подготовку применил на практике и вел себя со следователями достаточно нагло. Как собирался вести себя с фашистскими следователями, а не так, как у нас вели себя другие заключенные. Он был очень необычным арестантом.
Продержали его под следствием 2,5 года. Никаких объективных данных против него не было, и он сам, что очень важно, ни в чем не сознавался. Называл своих следователей фашистами и орал на них. Те — не знаю почему — это сносили. Может, боялись, что он немец из Германии и могут возникнуть какие-то дипломатические осложнения?
Дело дошло до Особого Совещания — судов-то практически не было, все решала "тройка". Особое Совещание приговорило его всего к трем годам лагеря, а он уже отсидел два с половиной. И когда ему сообщили приговор, он засмеялся и сказал: "Решили оформить мою отсидку?"
В лагере он попросил, чтобы его посадили к уголовникам, а не к политическим. Не знаю, какие у него при этом были соображения. Он пришел к уголовникам, вошел в камеру, встал в дверях и "выпустил" такое количество мата, которое даже представить себе невозможно: "Я стою в дверях и ругаюсь так, как никогда в жизни не ругался". Потом, говорит, строго спрашиваю: "Кто старший?" Какой-то заключенный, глядя несколько исподлобья, отвечает: "Ну, я..." Тогда он вынимает кисет и говорит: "Закури!"
Они сели рядом и стали курить. И вся камера поняла, что его трогать нельзя. Жил он в камере с этими уголовниками совершенно счастливо, прекрасно себя чувствовал. И никто не думал, что он политический. В свое время он читал много детективов. Когда заканчивались всякие дела, его просили: "Ну, расскажи!" И он рассказывал. Что-то вспоминал, что-то сам сочинял. Все его страшно за это любили, он был для них своеобразным окном в мир из этой камеры.
Когда его спрашивали, кто он такой, он отвечал: "Я доктор". И был прав, так как являлся доктором Берлинского университета. Но все поняли, что он врач, а врачей в камерах уважают. К нему обращались с различными болячками. Как человек грамотный, он давал (смеется) вполне разумные советы: "Ты сегодня не ешь второе, а ты попроси аспирин" и так далее. В общем, давал медицинские советы, поскольку он доктор. Не его вина, что его неправильно поняли. Он ведь не соврал, но этим пользовался. Это он мне все с обычным своим юмором рассказывал...
Когда он пришел в "зону", у него был приличный костюм — все-таки иностранец, недавно приехавший из Германии. Он попросил, чтобы ему дали какой-нибудь самый драный ватник, а все свое сложил. И в камеру пришел уже одетый так, что даже зеки удивлялись, какой он ободранный. Когда его освобождали, он снял все эти одежки, одел свой хороший костюм и пришел попрощаться. Зеки так и попадали и сказали, что если бы знали, что у него такой шикарный костюм, то уже давно сперли — это у них шел такой шутливый с обеих сторон разговор.
Сидел он в Онеглаге, на лесоповале. Среди заключенных были и политические, в том числе один немец из Германии, иностранный специалист. Какой-то рядовой мастер, приехавший на заработки по договору. Здесь он женился на русской девушке Наде (Надежде Леонтьевне Павловой), которая ему очень нравилась. И тут же его посадили, за что — непонятно. Дали 10 лет. А Паулю — 3. ("Потому что я ругал следователей!" — так он мне объяснял.) Этот товарищ и говорит: "Я, наверное, загнусь за эти 10 лет. А ты выходишь через 2 недели. Вот адрес моей жены, поезжай к ней. Во-первых, тебе будет где остановиться, во-вторых, расскажешь, как мы тут. Скажи ей, что я вряд ли отсюда выйду".
Пауль поехал к его жене и через месяц на ней женился. Друг там так и погиб (о нем ничего не известно), а Пауль прожил с Надей счастливую жизнь. У них были прекрасные дети, он ее страстно любил.
(Из воспоминаний Фридриха Павловича Рикерта: «Я хорошо его помню, когда он приехал из заключения. Мы быстро стали друзьями, он нашел ключи к моему сердцу. Сказки, прогулки, великолепный детский конструктор, доброе и нежное отношение к моей матери.»)
Он и Надя — это была пара! Я не знаю другой такой пары, совершенно потрясающая...
Он вышел из заключения в 1940 году, и они с Надей из Свердловска переехали в Первоуральск. Там он короткое время работал на химзаводе "Хромпик".
Мы познакомились с ним в трудармии. Я уже был там примерно месяц, когда пришел эшелон и мне сказали, что в нем едет доктор. И я, как и все, решил, что это врач.
Итээровцев сразу отделяли от простых рабочих и, по возможности, на общие работы не отправляли. Их использовали на инженерных должностях — инженеры ведь тоже были нужны. Его сразу направили в ОТК (он там работал все время, даже когда лагерь уже был распущен).
Сблизились мы не сразу, это происходило постепенно. Нас, итээровцев, в лагере было мало, мы всего один этаж в бараке занимали. Невольно начали разговаривать друг с другом. Не потому, что он интересовался мною, а я им. Встречаемся — разговариваем.
Со временем там возникали группы по интересам. Например, у нас собралась группа военных — капитаны, майоры и так далее. Их брали прямо с фронта и направляли к нам, как немцев. Эти держались вместе. Вполне естественно, потому что у них были общие интересы, общее прошлое. Точно так же вместе держались крестьяне с Поволжья. Вместе держалась и интеллигенция в русском понимании слова, то есть люди с образованием. Так и мы с Паулем в конце концов сдружились и были лучшими друзьями в этом лагере.
Мы все время ходили парой, все вместе делали. Причем он меня учил немецкому языку, я его — русскому. Что значит учил немецкому? Он открыл для меня такого поэта, как Рильке, которого я раньше не знал. А я, со своей стороны, дал ему прочесть "Преступление и наказание" по-русски. И когда он прочел, то пришел в состояние полнейшего ошеломления и сказал: "Я читал по-немецки, но это совсем не то. В немецком переводе ходят какие-то прилизанные господа, о чем-то друг с другом разговаривают, а тут, Господи, — какой же Раскольников прилизанный господин?"
Научил меня понимать "Фауста". Он очень любил эту вещь, и мы с ним ее не просто прочитали, а продискутировали каждую сцену, каждое слово. С тех пор у меня "Фауст" стоит на первом месте во всей мировой литературе, считая и русскую. Но только на немецком языке, а не в переводах! На втором месте — "Евгений Онегин".
После войны, когда нам разрешили жить на частных квартирах, мы жили с ним в одном доме. Правда, я имел отдельную комнату, но готовила Надя и на меня. Тогда были карточки, причем иногда доходило до смешного. Карточки выдавали на мясо, масло, крупы — на все. Но на самом деле зачастую этого не было. И тогда были замены — вместо мяса или масла, скажем, можно получить сгущенное молоко. Однажды я пошел отоваривать карточки, и ничего, кроме сгущенного молока, не было. Я принес невероятный бидон — все отоварил сгущенным молоком! И я его с тех пор есть не могу. Целый месяц жил этим молоком — и днем, и ночью, и по всякому поводу! Мне не хотелось все время ходить по магазинам, ждать, когда что-то появится. Я все за один прием получил и дальше забот не знал.
После войны Пауль съездил в Германию — там еще была жива его мать. Она была страшно поражена, когда он появился, считала, что он давно умер: "Я думала, что совершенно одинока, а оказывается, я уже бабушка и у меня давно есть внуки". Но, к сожалению, у нее был рак, и она доживала последние месяцы.
В Берлине он зашел в одно крупное министерство, потому что министром был его старый приятель, тоже коммунист. А его не пускают: "Министр занят, сегодня это совершенно невозможно!" Тогда он сказал секретарше: "А Вы напишите записку — пришел Пауль Хальперн из Нойкельна (это пригород Берлина) — и просто положите ему на стол".
Через некоторое время в бюро пропусков, где он сидел, раздается звонок — секретарша с удивлением говорит, что министр вел совещание, но когда увидел записку, поручил все заместителю, а сам вышел и просит его подняться. Этот друг тут же предложил ему занять высокий пост в правительстве ГДР на уровне министра или замминистра либо руководить любой фирмой: "У нас совершенно нет людей, кадровый голод, все кадры удрали на Запад". Но он от всего отказался.
Как он потом мне объяснил: "Отказался потому, что я уже испытал, что значит приехать в чужую страну (он имел в виду Россию). И я не хочу, чтобы мои дети испытали то же самое, приехав в Германию". Отказался от всех блестящих предложений и вернулся со своей Надей на Урал.
Работал в знаменитом Тагилстрое НКВД СССР, в лаборатории силикатных веществ, где делались различные анализы, необходимые при строительстве: почвы, глины, кирпича и прочего. И делал это все, естественно, на высоком уровне. Даже книжку написал на тему зимнего бетонирования, издал в соавторстве (чтобы напечатали) с одним своим начальником.
В 50-м году, вследствие ужесточения режима, он был уволен и целый год не мог никуда устроиться. Наконец, удалось устроиться в вечернюю школу. Преподавал химию, физику, иностранные языки (он свободно владел четырьмя языками). После смерти Сталина начались послабления режима, и в 54-м году он перешел в Нижнетагильский пединститут. Преподавал немецкий язык, химию и спецкурс по минералогии.
Как я уже говорил, он очень любил минералогию и собрал изумительную коллекцию минералов, часть которой была передана в Нижнетагильский краеведческий музей и составляет основу экспозиции по минералогии.
Кроме того, он занимался литературной деятельностью. Переводил на немецкий язык русских писателей, причем делал стихотворные переводы. Он перевел "Сказку о царе Салтане", переводил Лермонтова, Брюсова, других поэтов. Сам писал стихи. У его сына в Ростове есть тетрадка со стихами. Он очень любил Рильке, немецкого поэта начала века, и пытался его переводить на русский язык. Но я считаю, что это стоит упоминать не как творческий успех, а как его интерес.
Вера Михайловна Раушенбах: Это был необыкновенно интересный человек, очень широко эрудированный. С ним было интересно говорить на любые темы. Обычных бытовых разговоров, которые возникают при встречах со знакомыми, у нас с ним, как правило, не было. Все было гораздо глубже и интереснее.
После того, как Бориса Викторовича выпустили из "зоны", я занималась раскопками на Среднем Урале. И во всех раскопках участвовали Пауль Эмильевич и его дети. Мы были очень дружны с его женой.
Борис Викторович уже упомянул, что это была необычная семья. Да, совершенно особая. Я больше таких семей за свои 80 лет не встречала. Это не только потрясающая любовь, но и глубокое взаимное уважение. Его супруга, Надежда Леонтьевна, — удивительный человек, с необыкновенным чувством юмора.
Жили они в Тагиле — невозможно передать, в каких трудных условиях. Во-первых, у них ничего не было. Во-вторых, питались они более чем скудно — редька и хлеб. Мы все голодали во время войны, всем было тяжело. О чем люди говорили, когда встречались? О том, как трудно и как хочется есть... Надя сварит какую-нибудь баланду. Пауль съест: "Надюшенька, милая (поцелует ей ручки), все было необыкновенно вкусно, совершенно замечательно!"
Потрясающее отношение к жене, я такого больше никогда не встречала. Это было очень приятно. Мы-то, как правило, видим вокруг другие отношения: и хамят, и ругаются, и все что угодно. А здесь любовь и необычайно высокий уровень дружбы. Это держалось на его исключительной воспитанности и, с другой стороны, на необыкновенном чувстве юмора Нади. Нечего было есть, но она никогда не стонала, не ныла. Всегда все со смехом, с улыбочкой.
Когда их выпустили на поселение, то Борис Викторович у них и жил. Вместе переживали все трудности, вместе хлебали эту баланду, которую Надя умудрялась готовить.
Когда они поехали в Германию встретиться с мамой, то заехали к нам в Москву. Мы были в ужасе. Мы и сами не блистали, но... Выяснилось, что у Нади одно-единственное платье, штапельное. Другого у нее просто не было. Пауль — в заштопанных брюках, других тоже не было. Отпускать их в Германию в таком виде — только (смеется) позорить Родину. Тогда мы с Борисом Викторовичем подзаняли денег и купили Наде шерстянное и шелковое платья, туфли, Паулю — костюм, рубашку... и отправили их.
А дальше случилась такая история. Надя — она всю жизнь нуждалась — всегда все экономила. Поэтому они решили новый костюм, который мы купили Паулю, и ее новое платье положить в чемодан, а сами отправились в старом. Приехали в Берлин, а их багаж, по русскому разгильдяйству, отправили в Варшаву. Мы-то думали, что они предстанут перед матерью в новой одежде, люди как люди, а они — штопаные-перештопанные... И только когда они возвращались обратно, то нашли свой багаж, который вернулся из Варшавы.
Они воспитали трех сыновей — Фреда, Игоря и Бориса (в честь Бориса Викторовича). Старший сын — Фред, Фридрих Павлович Рикерт, сын Нади от первого мужа, живет в Ростове, работает научным консультантом в одной фирме. Младшие остались в Нижнем Тагиле. Один по стопам отца стал химиком, другой получил металлургическую специальность. Но у Игоря не получалось с работой — гроши какие-то зарабатывал, ушел в милицию, причем не будучи членом партии.
Пауль так хорошо воспитал их, что и Фред, и Игорь отличаются не только его пунктуальностью, но и невероятной честностью. Поэтому Игорь, работая в милиции, из-за своего характера всегда был на каких-то низших по чинам местах.
Борис Викторович: Не знали, куда его девать. Человек, не берущий взяток, — это ж чудо, аномалия! Его поставили, чтобы он никому не мешал, на совершенно бессмысленную в тех местах работу — ловить фальшивомонетчиков, а если в Тагиле вдруг появятся фальшивые купюры — начать расследование. Это был способ отстранить его от всех дел.
Вера Михайловна: Потом его перевели в железнодорожную милицию, и там он дослужился, по-моему, до чина майора. Сейчас он уже на пенсии и преподает в школе милиции.
А третий сын, Борис, — такого неугомонного плана. Он все время что-то начинает, у него рушится, рассыпается, но он тут же начинает что-нибудь новое.
Когда Пауль умер, Надя приехала к нам и жила у нас полгода. В это время у нас на даче гостила после тяжелейшего гипертонического криза сестра Бориса Викторовича, и они жили здесь вместе с Надей в маленьком домике. Но Надя недолго прожила после этого...
Когда Игорь женился, они жили с невесткой в одной квартире. Где бы Вы видели, чтобы невестка обожала свою свекровь, "молилась" на нее? А свекровь не знала, какую пылинку сдуть со своей невестки. Это все я отношу на счет потрясающего Надиного характера. Никогда никакого нытья, никакого огорчения, только улыбки и юмор. По всякому поводу она находила, что сказать, чтобы это было смешно и забавно.
А что касается минералогической коллекции Пауля Эмильевича, то это слабо сказано, что она хороша. Это совершенно необыкновенно, сколько он собрал. Часть он передал в Нижнетагильский музей, но дома еще в три раза больше: отдельная комната, сплошные шкафы с ящиками, все аннотированы, все с бирочками, с номерами.
Недавно был Фред и рассказывал, что звонил Игорь, который все это продолжал и берег, и советовался: "Как быть с коллекцией?" Их дети — внуки Пауля Эмильевича — этим уже не интересуются. И они договорились, что всю эту огромную коллекцию передадут в музей.
Эдуард Бернгардт: Он был коммунистом в Германии, причем, как говорят, идейным. Там, в Германии, он пытался создать идеальный, с его точки зрения, порядок. Раз он приехал сюда — значит в его сознании Советский Союз был таким идеалом. Как он перенес развенчание своих иллюзий?
Борис Викторович: Нет-нет, у него был правильный образ. Он мне рассказывал, что еще в Германии они с приятелем, который тоже был коммунистом, называли Советский Союз не иначе как "Великое говно". "Die große Scheiße" — так это звучало по-немецки. Дело в том, что в Германии его, условно говоря, ждала виселица, ему надо было быстро уносить ноги. Он вынужден был уехать, но куда? Пришлось поехать в это "Великое говно" и погрузиться в него по шею. Так что никаких иллюзий на этот счет у него не было.
У него другая иллюзия была: Германия должна быть социалистической — так они все во главе с Тельманом считали. Он считал, что нацизм — это не то, что нужно Германии. Был ярый антифашист, причем после прихода нацистов к власти продолжал эту работу. Подробно он не рассказывал, но это были такие дела, что не дай Бог.
Например, однажды надо было передать какой-то совершенно секретный материал в Советский Союз. Это передавалось таким образом. Он одолжил у знакомого шикарный костюм. Получил партийные деньги (огромную пачку), которые он обязан был потом вернуть, за исключением какой-нибудь мелочи. Сел в самую шикарную машину, подъехал к шикарному ресторану. Портье видит, что из машины выходит прекрасно одетый господин, щедро платит чаевые и что в портмоне у него тысячи марок. И Пауль беспрепятственно проходит в ресторан. Там он в конце концов приглашает на танец некую даму и во время танца передает ей секретное донесение для Советского Союза. Она прячет его в свой лифчик и дальше все идет по своей линии. Вот такие вещи он делал.
Пауль был там на очень серьезной работе. По-видимому, он был нашим секретным агентом в Германии, наряду с тем, что был коммунистом. В общем, ему там оставаться было нельзя. Он знал, что едет в страну "Великого говна", но деваться было некуда. И политикой он здесь уже не занимался. Решил, что будет заниматься наукой — "и пошли вы все к черту"! Он считал, что у нас во главе страны стоят люди, скажем так, "не перший сорт". Был очень низкого мнения о наших руководителях и решил вести здесь жизнь нормального мещанина.
Бернгардт: Самая лучшая жизнь.
Борис Викторович: Да, самая лучшая — делать свою работу, в политику не влезать. Когда его посадили, Коминтерн автоматически исключил его из партии. Потом, когда кончилась война и его выпустили, остатки Коминтерна, пытавшиеся воскреснуть, предложили ему подать заявление на восстановление в партии. Причем они гарантировали ему, что он будет восстановлен. Он ответил: "Вы меня исключали, вот вы и восстанавливайте. Я писать ничего не буду!" Но по каким-то бюрократическим правилам сделать это было нельзя. Хотя многие подавали заявления на восстановление и снова получали членство в Компартии Германии, он оставался до конца дней беспартийным.
Его практическая партийная деятельность в Германии и СССР привела его к убеждению, что это занятие недостойно "белого человека", как говорится. Это место, где собирается всякое жулье и сволочь, что соответствует понятию "какократии" у Германа Оберта.
Бернгардт: Вы сказали, что при встречах говорили о возвышенном. О чем конкретно — о политике?
Борис Викторович: Нет, конечно! Это были литература, искусство, наука.
(Из воспоминаний Фридриха Павловича Рикерта: «В 1947 г. наша семья состояла из 5 человек. Кроме меня и родителей еще двое братьев: Игорь — 1941 г., и Борис — 1947 г. Год был тяжелый. Самое яркое воспоминание — постоянное желание поесть и удивительные вечера, когда за год отец рассказал нам с мамой фантастический роман Курта Ласвица “На двух планетах” и немецкий эпос — “Кольцо Нибелунгов”, “Зигфрид”...»)
Вера Михайловна: Помните, раньше в каждом номере "Огонька" была репродукция какой-нибудь картины? Они подбирали из этих "Огоньков" репродукции картин одного художника, вырезали и клеили их на стены (жили в деревянном домишке, обшитом фанерой). По этим репродукциям Пауль читал лекции детям и Наде про этого художника. Потом был следующий художник и так далее.
Это я отлично помню, потому что каждое лето приезжала туда в экспедицию со всей своей командой. Нас приезжало человек по 15 — мои помощники, студенты, ученики старших классов. Был такой табор, вповалку спали, Надя варила нам пшенную кашу. И семья все это терпела.
Он хорошо знал музыку, своим ребятам о композиторах рассказывал. Когда я со своей командой приезжала, — у меня там хватало 15-16-летних "недорослей", — он им рассказывал о музыке, живописи, композиторах, художниках.
(Из воспоминаний Ф.П. Рикерта: «Появление долгоиграющих пластинок стало настояшим переворотом в общении интеллигенции глубинки. Лингвист Г.А. Ратнер, директор библиотечного коллектора, создал коллекцию из нескольких тысяч уникальных записей со всего мира — лучших исполнителей, симфонических оркестров. Два раза в месяц музыкальные вечера в дворцах культуры металлургов и вагоностроителей. Отец и мать их посещали непременно, мы с ними. Для узкого круга близких знакомых Ратнера — дополнительно, у него дома, самые новые поступления в его личную фонотеку.
В 1957 г. нашей семье дали благоустроенную трехкомнатную квартиру. Общение с друзьями и знакомыми приобрело новое качество. Отец, наряду с прослушиванием уже богатой собственной фонотеки, часто музицировал за фортепиано, присланным из Германии после смерти его матери — Иоганны Хальперн.»)
Борис Викторович: Он мне как-то подарил книжечку своих стихов, она у меня до сих пор хранится. Рукописная, сам брошюровал, переплетал, все очень аккуратно. Правда, на паршивой бумаге — для обжига кирпича.
Стихи писал только на немецком. Писал о разном, такая свободная лирика, причем стихи были подражательные. Вот как у нас — подражание Пушкину, Лермонтову и так далее.
Он подражал Рильке, который любил Россию церковную, православную, потому что был поэт мистико-религиозного склада. Один из лучших сборников его стихов так и называется — "Часослов" ("Stundenbuch"). Есть стихи, посвященные Троице-Сергиевой лавре, о киевских пещерах и так далее. Пауль его очень любил и привил эту любовь мне.
Когда я уехал, он остался на Урале. У него же там были семья, дети, работа. Я-то ведь в Москву уехал на работу, а он на Урале и работал — сначала вольно, потом как заключенный и снова вольно. Поэтому ему ни к чему было уезжать, да и невозможно — из-за режима спецкомендатур.
Бернгардт: Он перезащищался здесь?
Борис Викторович: Нет. Он жаловался мне, что у него нет документа о защите, потому что он защитился буквально накануне нацистского переворота. Только успел оформить все формальности, но не получил документы на руки, как должен был перейти на нелегальное положение.
Это можно было восстановить только по архивам. Он сначала этим занимался, а потом плюнул на это дело. И правильно сделал, потому что это ничего не меняло в его положении здесь, в Союзе. Ну, получил бы он эту бумажку из Берлина, а у нас в России она никакой силы не имеет.
Он был человек, который не стремился к какому-то официальному признанию. Ему достаточно было, что его признавали друзья, сослуживцы и прочие, вот это и было для него главным.
Это был прекрасный во всех отношениях человек, но, к сожалению, он рано умер.
(Из воспоминаний Ф.П. Рикерта: «В морозные дни конца ноября 1971 г. его не стало. В глухой деревушке ему никто не объяснил, что во время инфаркта надо лежать смирно, и он все бодрился. Могилу с трудом вырыли на старом кладбище в Фокинцах, в лесу на угоре, откуда далеко-далеко видны прекрасные дали Урала.»)