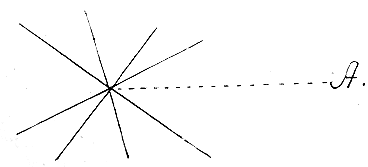
Вечером, как обычно по воскресеньям, профессор Рейхер играл в шахматы у себя на четвертом этаже, на открытой небольшой веранде. Партнером был Генрих Вольф, его любимый ученик. Они курили, уставясь в шахматную доску. Вечерняя заря давно погасла в конце длинной улицы. Черный воздух был душен. Не шевелился плющ, обвивавший выступы веранды. Внизу под звездами лежала пустынная асфальтовая площадь.
Покряхтывая, посапывая, профессор разрешал ход. Поднял плотную руку с желтоватыми ногтями, но не дотронулся до фигуры. Вынул изо рта окурок сигары:
— Да. Нужно подумать.
— Пожалуйста, — ответил Генрих Вольф. Его красивое лицо с широким лбом, резко очерченным подбородком, коротким прямым носом, выражало покой могучей машины. У профессора было больше темперамента (старое поколение), — стального цвета борода растрепалась, на морщинистом лбу, под мешками глаз лежали красные пятна. Высокая лампа под широким цветным абажуром освещала их лица. Несколько чахлых зелененьких существ кружилось у лампочки, сидели на свеже проглаженной скатерти, топорща усики, глядя точечками глаз и, должно быть, не понимая, что имеют честь присутствовать при том, как два бога тешатся игрою небожителей.
Фрау Рейхер, мать профессора, чистенькая старушка в наколке, вся в светло-сером, сидела неподвижно. Читать и вязать она уже не могла при искусственном свете. Вдали в черной ночи горели окна высокого дома, синеватые звезды вокзальных фонарей, и угадывались огромные пространства каменного Берлина. Если бы не сын за шахматной доской, не тихий свет абажура, не зелененькие существа на скатерти, — ужас, давно прилегший в душе, поднялся бы опять, как много раз в эти годы, и высушил бескровное личико фрау Рейхер. Это был ужас перед надвигающимися на город, на этот балкон миллионами. Их звали не Фрицы, Иоганны, Генрихи, Отто, а — масса. Один, как один, — плохо выбритые, в бумажных манишках, покрытые железной, свинцовой пылью, они по временам заполняли улицы. Они многого хотели, выпячивая тяжелые челюсти.
Фрау Рейхер вспоминала блаженное время, когда ее жених, Отто Рейхер, вернулся из-под Седана победителем французского императора. Он весь пропах солдатской кожей, был бородат и громогласен. Она встретила его за городом. На ней было голубое платьице и ленты и цветы. Германия летела к солнцу, в сияющую радость, вместе с веселой бородой Отто, вместе с сумасшедшей гордостью и надеждами. Скоро, скоро весь мир будет завоеван...
Прошла жизнь фрау Рейхер. И настала и прошла вторая война. Кое-как вытащили ноги из болота, где гнили двадцать миллионов человеческих трупов. И вот, — появились массы. Взгляни любому под каскетку в глаза. Это не немецкие глаза. Их выражение упрямо, не весело, непостижимо. К их глазам нет доступа. Фрау Рейхер охватывал ужас.
На веранде незаметно появился Алексей Семенович Хлынов. Он был по-воскресному одет в чистенький серый костюм, массового производства. Появиться вечером у профессора в будничном платье — значило бы лишь подчеркнуть пренебрежение к издавним обычаям воскресного отдыха. И только. Зачем? День отдыха — день покоя после шести дней труда и перед новыми шестью днями. В Москве Хлынов посмеивался, над воскресными обычаями немцев. Здесь он понял, что только большая культура могла создать эту еженедельную ванну покоя, где человек распрямляет усталые члены, — этот однообразный ритм воли.
Хлынов поклонился фрау Рейхер, пожелал ей доброго вечера и сел рядом с профессором, который добродушно сморщился и с юмором подмигнул шахматной доске. На столе лежали журналы и иностранные газеты. Профессор, как и всякий интеллигентный человек в Европе нынешних дней, был беден. Его гостеприимство ограничивалось мягким светом лампы на свеже выглаженной скатерти, предложенной сигарой и беседой, стоившей, пожалуй, дороже ужина с шампанским и прочими шиберскими излишествами. В будни, от семи утра до семи вечера, профессор бывал молчалив, деловит и суров. По воскресеньям он «охотно отправлялся с друзьями на прогулку в страну фантазии». Он любил поговорить «от одного до другого конца сигары». Уходя после этих бесед, Хлынов чувствовал себя вымытым в горном воздухе.
— Да, надо подумать, — опять сказал профессор, закутываясь дымом.
— Пожалуйста, — холодно-вежливо ответил Вольф.
Хлынов развернул парижскую — «Л'Энтрансижен», и на первой странице под заголовком «Таинственное преступление в Вилль Давре» уведел снимок, изображавший четырех людей, разрезанных на куски. «На куски, так на куски», — подумал Хлынов. Но то, что он прочел, заставило его задуматься:
«...Нужно предполагать, что преступление совершено каким-то неизвестным до сих пор орудием, либо раскаленной проволокой либо тепловым лучем огромного напряжения. Нам удалось установить национальность и внешний вид преступника; это, как и надо было ожидать, — русский (следовало описание наружности, данное хозяйкой гостиницы). В ночь преступления с ним была женщина. Но дальше — все тайна, все загадочно. Быть может, несколько приподнимет завесу кровавая находка в лесу Фонтенебло. Там, в тридцати метрах от дороги, найден в бесчувственном состоянии неизвестный. На теле его оказались четыре огнестрельных раны. Документы и все, устанавливающее его личность, похищены. Повидимому, жертва была сброшена с автомобиля. Привести в сознание его до сих пор еще не удалось...».
— Шах! — воскликнул профессор, взмахивая взятым конем. — Шах и мат. Вольф, вы разбиты, вы оккупированы, вы на коленях, шестьдесят шесть лет вы платите репарации. Таков закон высокой колониальной политики.
— Реванш? — спросил Вольф.
— О, нет, мы будем наслаждаться всеми преимуществами победителя.
Профессор потрепал Хлынова по колену:
— Что вы такое вычитали в газетке, мой юный и непримиримый большевик? Четыре разрезанных француза? Что поделаешь, — победители всегда склонны к излишествам. История стремится к равновесию. Пессимизм, — вот что притаскивают победители к себе в дом вместе с награбленным. Они начинают слишком жирно есть. Желудок их не справляется с жирами и отравляет кровь отвратительными токсинами. Они режут людей на куски, вешаются на подтяжках, кидаются с мостов. У них пропадает любовь к жизни и к женщине. Оптимизм, — вот что остается у побежденных взамен награбленного. Великолепное свойство человеческой воли — верить, что все — к лучшему в этом лучшем из миров. Это укрепляет мускулы и вселяет в сердце неомраченное веселье. Не будь я злораден, — стоило бы написать книгу о торжестве оптимизма.
— Подведя под него базу молекулярной физики? — с усмешкой спросил Вольф.
Профессор гаркнул:
— Так точно. Переворот в истоках нашего сознания. Пессимизм должен быть выдернут с корешками. Угрюмая и кровавая мистика Востока; безнадежная печаль эллинской цивилизации; разнузданные страсти Рима среди дымящихся развалин городов; изуверство средних веков, каждый год ожидающих конца мира и страшного суда, и наш век, строющий картонные домики благополучия и с самозабвением глотающий нестерпимую чушь кинематографа, — на каком основании, я спрашиваю, построена эта чахлая психика царя природы? Основание — извечный пессимизм: убеждение, будто человечество живет на умирающей планете в лучах потухающего солнца, как предсмертная плесень... В прошлом было слишком жарко, слишком буйна растительность и прожорливы мезозавры (60 метров длины). Человеку было не выжить. Но вот юность земли отцвела, и в морщинах леденеющего шара последней вспышкой жизни закопошилось человечество.
Как вам это нравится? Стоило плесени начинать жить? А тут еще с каждым годом леса редеют, реки высыхают, уголь и нефть подходят к концу. А человечество все плодится, чорт возьми! Вступают в силу законы больших чисел. А жизнь громовым голосом командует: Вперед, полным ходом, — в овраг старую таратайку, хватай за холку необъезженного жеребца, — шпорь, ходу, вперед!.. А где взять силы на это? Где их возьмешь, когда тысячелетним гвоздем засело в голове: «Впереди — красноватое солнце, закутанное морозным паром, звенит снег по ледяной земле, да ветер вечности посвистывает в развалинах отшумевших цивилизаций, — впереди смерть»...
И вот (профессор описал угольком сигары восьмерку, знак вечности в черном небе), — все это не так, позвольте вам заметить. Все это — пуфф, мираж, ложь... Молекулярная физика пришла на помощь одураченному человечеству. И всего-на-всего для этого нужно было постигнуть два принципа: радиоактивность и теорию квант...
Кванты 1)... — Вольф, а за ним и Хлынов весело рассмеялись, — браво, браво, профессору!
1) Новейшая теория распространения света отдельными зарядами энергии, квантами.
— Так точно, чорт возьми, кванты (уголек сигары начертил бешеный зигзаг). — И вот теперь мы уже не мчимся в смерть и в лед, а двигаемся в бесконечном круговороте смен, — все выше, все головокружительней. И мы — не на умирающей планете, не при конце ее дней. Но земля — в расцвете сил, чудовищных и скрытых то грозная, то милостивая. Впереди — не ледяная ночь, — средневековое понятие. Впереди — миллионы катастроф и ледоходы весны и пышные золотые цивилизации. Гений человечества, не умирая, снова и снова семенами взойдет на прекрасной, зеленой земле...
Профессор засопел. Вольф опустил глаза. У Хлынова билось сердце. Фрау Рейхер из-за лампы старалась рассмотреть лицо сына, морщинистые губы ее дрожали. Профессор сбросил пепел с сигары и как бы начертил ею в воздухе огненные линии...
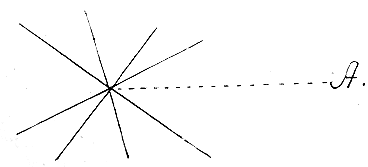
В мировом пространстве в различных направлениях двигаются потоки энергии (в просторечии — лучи света), или потоки квант. Существуют точки, где эти потоки скрещиваются (точка А). Что происходит? Энергия становится все более и более плотной в этой точке, ибо в каждую секунду через точку А проходит все больше и больше квант. И вот, где-то в фокусе скрещения (точка А) напряженность энергии становится матерьяльной, — энергия уплотняется в материю. Рождается матерьяльная частица...
Хлынов и Вольф невольно подняли голову к черному небу, где редко одна от другой светило несколько звезд над Берлином.
— Мы не можем определить, не знаем качественного различия между энергией и материей, — его нет. Материя — одна из форм энергии. Итак, в пространстве возникает эта особая форма, — первый матерьяльный атом. К нему устремляются другие частицы материи, рожденные из света. Появляется туманность, начинает вращаться и сжиматься. Внутри ее образуется чудовищное давление и температура, должно быть, до миллиона градусов. Ведь одна туманность Андромеды больше всей нашей звездной вселенной. (Вы представляете — какая чертовщина происходит там у нее, в центре? Там образуются таинственные металлы, чрезвычайно сложного атомного состава и большого удельного веса. Недавно открыли, что загадочный спутник Сириуса обладает удельным весом в двадцать тысяч раз тяжелее платины. А это всего только маленькое небесное тело.
Далее следует двойной процесс жизни небесного тела: охлаждение, — это извне, — и радиоактивный распад, — изнутри. Смерть и жизнь, -борьба. Тело умирает, леденеет, внутренние силы взрывают его, рождают к новой жизни. Вечный круговорот.
То же-и с нашей землей. Она была когда-то пылающей звездой. Погасла, застыла. И снова идет прогревание всей ее толщи радиоактивным распадом от оболочки к центру. И снова она будет звездой...
— Вы полагаете, что центр земли тверд и холоден? — спросил Хлынов. Температура центра земного шара должна быть равна абсолютному нулю, то-есть температуре мирового пространства, — 273 градуса ниже нуля по Цельсию.
— А вулканы?
— Между земной корой и этим холодным ядром лежит пояс кипящих металлов. Но как далеко зашло прогревание, — мы сейчас не знаем. Мы едва проникли на три-четыре километра, а это все равно, что царапина ногтем по апельсину. Было бы любопытно пробиться сквозь кипящий оливиновый пояс туда, к центру, к распадающимся металлам. Разрешить тайну распада.
Вот, друзья мои, база, которую я подвожу под оптимизм. Бесконечный круговорот жизни. Позади и впереди между катастрофами земли, -малыми и крупными, — лежат цивилизации древние и грядущие. Дух человеческий, порядка световой или электрической энергии, не исчезает, но снова и снова претворяется в материю.
Хлынов положил руку на развернутый лист «Л'Энтрансижен». Профессор, вот этот снимок напомнил мне разговор на аэроплане, когда я летел над Ковной. Задача пробраться к распадающимся элементам земного центра не так уже невероятна.
— Какое это имеет отношение к разрезанным французам?
— Убийство в Вилль Давре совершено инфра-красными лучами.
При этих словах Вольф молча придвинулся к столу, холодное лицо его насторожилось.
— Ах, опять эти лучи, — профессор сморщился, как от кислого вина — повторяю вам — вздор, блеф, утки, запускаемые английским военным министерством.
— Аппарат инфра-красных лучей построен русским, я знаю этого человека, — ответил Хлынов, — это талантливый изобретатель и крупный преступник.
Хлынов рассказал все, что знал об инженере Гарине: об его работах в Политехническом институте (где он с ним встретился в первый раз), о преступлении на Крестовском острове, о странных находках в подвале дачи, о вызове Шельги в Париж и о том, что, видимо, сейчас идет бешеная охота за аппаратом Гарина.
— Свидетельство на-лицо, — Хлынов указал на фотографию, — это работа Гарина.
Вольф, открыв оба ряда крепких зубов, рассматривал снимок. Профессор проговорил рассеянно:
— Вы полагаете, что при помощи аппарата инфра-красных лучей можно бурить землю? Хотя... при трехтысячной температуре расплавятся и глины и гранит. Очень, очень любопытно... А нельзя ли куда-нибудь телеграфировать этому Гарину? Гм... Если соединить бурение с искусственным охлаждением и поставить электрические элеваторы для отчерпывания породы — можно пробраться глубоко... Виноват, виноват, — а гамма— и бета-лучи? Хотя, можно использовать свинец для защиты. Друг мой, вы меня чертовски взволновали...
До второго часа ночи, сверх обыкновения, профессор ходил по веранде, курил и развивал планы один удивительнее другого.
Обычно Вольф, уходя от профессора, прощался с Хлыновым па площади. На этот раз он пошел с ним рядом, засунув руку в карман брюк, постукивая тростью, опустив нахмуренное лицо.
— Ваше мнение таково, что инженер Гарин скрылся вместе с аппаратом после истории в Вилль Давре? — спросил он
— Да.
— А эта «кровавая находка в лесу Фонтенебло» не может оказаться Гариным?
— Вы хотите сказать, что Шельга?.. Захватил аппарат?..
— Вот, именно...
— Мне это не приходило в голову... Да, это было бы очень не плохо.
— Я думаю, — подняв голову, насмешливо сказал Вольф.
Хлынов быстро взглянул на собеседника. Оба остановились. Издалека фонарь освещал лицо Вольфа, — злую усмешку, холодные глаза, упрямый подбородок.
Хлынов сказал:
— Во всяком случае — все это только догадки, нам пока еще незачем ссориться.
— Я понимаю, понимаю.
— Вольф, я с вами не хитрю, но говорю твердо, — необходимо, чтобы аппарат Гарина оказался в России. Одним этим желанием я создаю в вас врага. Честное слово, дорогой Вольф, у вас очень смутные понятия, что вредно и что полезно для вашей родины.
— Вы стараетесь меня оскорбить?
— Фу ты, чорт! Хотя — правда! — Хлынов чисто по-российски, — что сразу отметил Вольф, — двинул шляпу на сторону, почесал за ухом. — Да разве после того, как мы перебили друг у друга миллионов семь человек — можно еще обижаться на слова?.. Вы — немец от головы до ног, бронированная пехота, производители машин, у вас и нервы, я думаю, другого состава. А мы — верхоконные. Хлеборобы... Слушайте, Вольф, попади в руки таким, как вы, аппарат Гарина, что вы только натворите!..
— Германия никогда не примирится с унижением.
— Унижение, не понимаю. Подождите презирать, Вольф... Три миллиона безработных, — это унижение!.. Понимаю. Расхищение Америкой вашей промышленности — унижение!.. То, что вы сидите среди гор из непроданных товаров, как в Сахаре на мешках с золотом, без капли воды, — унижение!.. Но мечтать — наложить Франции или Англии!.. Не по адресу гнев!.. Мы не рыцари, не крестоносцы, — им пристало топорщиться, кровь за кровь — они этим хлеб добывали!..
— Вы — мужик, герр Хлынов.
— Вот, что верно, то верно, спасибо. Не так, чтобы мы, мужики, были уж очень хороши. Избы соломой кроем. Обманываем, ругаемся. По пьяному делу вывертываем оглоблю и по голове — тюк? Но — ничего себе, со сметкой. Подтягиваемся. Когда вас мертвой хваткой возьмет Америка, когда рванутся из фабричных ворот немцы под американские пулеметы... увидите, какие отличные ребята в богатырских шлемах встанут на восточной границе... Вперят глаза в страшные туманы грядущего... Нет, Вольф, мы все-таки народ хороший. Нас полюбить нужно, нас еще не любил никто. А что у нас портки рваные, заведем добрые штаны, в полоску. А вы знаете, — сейчас в каждом уездном городишке устраиваются в зимнее время доморощенные университеты, съезжаются из деревень Митюхи с Васюхами, Сашки с Машками. Хотят умными быть? А?
Вольф странно, раскосо, взглянул на Хлынова.
— Вольф, у вас, у немецкого народа, — сейчас один только друг... Запомните это... Вы — в кольце смертных врагов. И в одном месте — прорыв. Чорт знает куда прорыв! Ах, если бы каждый из вас понял, всей кожей почувствовал...
Они подошли к дому, где в первом этаже Хлынов снимал комнату. Молча простились крепким рукопожатием. Хлынов ушел в ворота. Вольф стоял медленно, катая между зубами погасшую сигару.
Вдруг окно в первом этаже распахнулось и Хлынов взволнованно высунулся:
— А!.. Вы еще здесь? Слава богу. Вольф, телеграмма из Парижа, от Шельги... Слушайте: «Преступник ушел. Я ранен, встану не скоро. Опасность величайшая, неизмеримая грозит миру. Необходим ваш приезд».
— Я еду с вами, — быстро сказал Вольф.
На белой, слегка колеблющейся, шторе бегали тени листвы. Неумолкаемое журчание слышалось за шторой. Это на газоне больничного сада из переносных труб распылялась вода среди радуг, стекала каплями с листов платана перед окном.
Шельга дремал в белой высокой комнате, освещенной сквозь штору. Издалека доносился шум Парижа. Близкими были звуки, — шорох деревьев, голоса птиц и однообразный плеск воды.
Но вот крякал неподалеку автомобиль, или раздавались шаги по коридору, — Шельга быстро открывал глаза, остро, тревожно глядел на дверь, перекатывая зрачки к окну. Пошевелиться он не мог. Обе руки его были окованы гипсом, грудь и голова забинтованы. Для защиты — одни глаза. И снова сладкие звуки из сада навевали сон.
Разбудила сестра-кармелитка, вся в белом, осторожно полными руками поднесла к губам Шельги фарфоровый соусничек с чаем. Когда ушла, остался запах лаванды. Между сном и тревогой проходил день. Это были седьмые сутки, после того, как Шельгу, без чувств, окровавленного, подняли в лесу Фонтенебло.
Его уже два раза допрашивал следователь, и Шельга через переводчика дал следующие показания:
«В двенадцатом часу ночи на меня напали двое. Я защищался тростью и кулаками. Получил четыре пули, больше ничего не помню».
«Вы хорошо рассмотрели лица нападавших?»
«Их лица, — вся нижняя часть, — были закрыты платками».
«Вы защищались также и тростью?»
«Просто это был сучек, — я его подобрал в лесу».
«Зачем в такой поздний час вы попали в лес Фонтенебло?»
«Гулял, осматривал дворец, пошел обратно лесом, заблудился».
«Чем вы объясните то обстоятельство, что вблизи места покушения. на вас обнаружены свежие следы автомобиля?»
«Значит — преступники приехали на автомобиле».
«Чтобы ограбить вас? Или чтобы убить?»
«Ни то, ни другое, я думаю. Меня никто не знает в Париже. В посольстве я не служу. Политической миссии не выполняю. Денег у меня с собой немного».
«Стало быть, преступники ожидали не вас, когда стояли у двойного дуба на поляне, где один курил, другой потерял запонку с ценной жемчужиной?»
«По всей вероятности, это были светские молодые люди, проигравшиеся на скачках, или в казино. Они искали случая поправить дела. В лесу Фонтенебло мог попасться человек, набитый тысячефранковыми билетами».
На втором допросе, когда следователь предъявил копию телеграммы в Берлин Хлынову (переданную следователю сестрой-кармелиткой), Шельга ответил:
«Это шифр. Дело касается поимки серьезного преступника, ускользнувшего из России».
«Вы могли бы говорить со мной более откровенно?»
«Нет. Это не моя тайна».
На вопросы Шельга отвечал точно и ясно, глядел в глаза честно и глуповато. Следователю оставалось только поверить в его искренность. Но опасность не миновала. Опасностью были пропитаны столбцы газет, полные подробностями «кошмарного дела в Вилль Давре», опасность была за дверью, за белой шторой, колеблемой ветром, и фарфоровом соусничком, подносимом к губам нежными руками сестры-кармелитки.
Спасение в одном: как можно скорее снять гипс и повязки. И Шельга весь застыл, без движения, в полудремоте, чтобы облегчить таинственную работу заживления поломанного, израненного тела.
...Фонари потушены. Автомобиль замедлил ход... В окошко машины высунулся Гарин и — громким шопотом:
— Шельга, сворачивайте. Сейчас будет поляна. Там...
Грузно тряхнувшись на шоссейной канаве, автомобиль прошел между деревьями, повернулся и стал.
Под звездами лежала извилистая поляна. Смутно в тени деревьев громоздились скалы.
Мотор выключен. Остро запахло травой. В стороне скал сонно плескался ручей, — над ним вился туманчик, уходя неясным полотнищем вглубь поляны.
Гарин выпрыгнул на мокрую траву. Протянул руку. Из автомобиля вышла Зоя Монроз в глубоко надвинутой шапочке, подняла голову к звездам. Передернула плечами.
— Ну. вылезайте же! — резко сказал Гарин.
Тогда из автомобиля, головой вперед, вылез Роллинг. Из-под тени котелка его, как у собаки, блестел золотой зуб.
Плескалась, бормотала вода в камнях. Роллинг вытащил из кармана руку, стиснутую, видимо, уже давно, в кулачек, и заговорил с сильным английским акцентом:
— Если здесь готовится смертный приговор, — я протестую. Во имя права. Но имя человечности... Я протестую, как американец... Как христианин... Я предлагаю любой выкуп за жизнь.
Зоя стояла спиной к нему. Гарин открыл рот, глотнул ночной сырости:
— Убить вас я мог бы и там...
— Значит — выкуп?
— Нет.
— Участие в ваших... (Роллинг помотал котелком)... в ваших странных предприятиях?
— Да. Вы должны это помнить... На бульваре Мальзерб. Я говорил.
— Хорошо, — быстро ответил Роллинг, — завтра я вас приму... Я должен продумать заново ваши предложения.
Зоя сказала негромко:
— Роллинг, не говорите глупостей.
— Мадемуазель, — Роллинг подскочил, котелок его свихнулся, — мадемуазель... Ваше неслыханное поведение!.. Предательство!.. Разврат!..
Так же тихо Зоя ответила:
— Ну нас к чорту. Говорите с Гариным.
Тогда Роллинг и Гарин отошли к двойному дубу. Там вспыхнул электрический фонарик. Нагнулись две головы. Низко на свет нырнула ночная птица. Плескалась, бормотала вода в камнях...
— ...но нас не трое, нас четверо... здесь есть свидетель, — долетел резкий голос Роллинга...
Кто здесь, кто здесь? — сотрясаясь, сквозь сон пробормотал Шельга и проснулся. Зрачки его были во весь глаз.
Перед ним на белом стульчике, — шляпа на коленях, — сидел Хлынов.
— Не предугадал хода... Думать времени не было, — рассказывал Шельга, — сыграл такого дурака, что — ну.
— Ваша ошибка в том, что вы взяли в автомобиль Роллинга, — сказал Хлынов.
— Какой чорт я взял!.. Когда в гостинице началась пальба и резня, Роллинг сидел, как крыса, в автомобиле, — ощетинился двумя кольтами... Со мной оружия не было. Я влез на балкон и видел, как Гарин расправился с бандитами... Сообщил об этом мистеру... Роллинг струсил, зашипел, зашуршал зубами. Наотрез отказался выходить из машины... Потом он пытался стрелять в Зою Монроз. Но мы с Гариным свернули ему руки... Долго возиться было некогда, — я вскочил за шоффера и — ходу...
— Когда вы были уже на поляне, и они совещались около дуба, — неужели вы не поняли?..
— Понял, что мое дело ящик. А что было делать? Бежать? Ну, знаете, — я все-таки спортсмен... К тому же у меня и план был весь разработан... В кармане фальшивый паспорт для Гарина, с десятью визами... Аппарат его, — рукой взять, — в автомобиле... При таких обстоятельствах мог я о шкуре своей очень-то думать?..
— Ну, хорошо... Они сговорились...
Роллинг подписал какую-то бумажку, — я хорошо видел. После этого — слышу, — он спросил на счет четвертого свидетеля, то-есть меня. Дело — пепел. Я — шаг вперед и говорю Зое Монроз:
«Сударыня, ни ваш Гарин, ни ваш Роллинг машиной править ночью не могут. Если меня сейчас убьют, — вы никуда не уедете, к утру все трое будете в стальных наручниках».
— Знаете, что она мне ответила? Вот женщина!.. Через плечо, не глядя:
«Хорошо, я приму это к сведению»,
А до чего красива... Бесовка... Ну, ладно. Гарин и Роллинг вернулись к машине. Я — как ни в чем не бывало... Первая села Зоя. Высунулась и как птица, что-то проговорила по-английски. Гарин мне: «Товарищ Шельга, теперь валяйте полный ход по шоссе на запад».
— Я присел перед радиатором,.. Вот где ошибка... У них только и была одна эта минута... Когда машина на ходу — они бы со мной ничего не сделали, побоялись... Хорошо, завожу машину... Вдруг, в темя, в мозг — будто дом на голову рухнул, хряснули кости, ударило, обожгло светом, опрокинуло навзничь... Видел только, — мелькнула перекошенная морда Роллинга... Сукин сын. Американец!.. Четыре нули в меня запустил... Потом, — открываю глаза, вот эта комната.
Шельга утомился, рассказывая. Долго молчали. Хлынов спросил:
— Где может быть сейчас Роллинг?
— Как— где? Конечно, в Париже. Ворочает прессой. У него сейчас большое наступление на химическом фронте. Миллиарды лопатой загребает. В том-то все и дело, что я с минуты на минуту жду пулю в окно или — яда в соуснике. Он меня, все-таки, пришьет, конечно...
— Чего же вы молчите?.. Немедленно нужно дать знать шефу полиции.
— Товарищ дорогой, вы с ума сошли. Я и жив-то до сих пор только потому, что молчу.
— Итак, Шельга, вы своими глазами видели действие аппарата?
— Видел и теперь знаю: пушки, газы, аэропланы — все это детская забава. Вы не забывайте, — тут не один Гарин... Гарин и. Роллинг. Смертоносная машина и миллиарды. Всего можно ждать.
Хлынов поднял штору и долго стоял у окна, глядя на изумрудную зелень, на старого садовника, с трудом перетаскивающего металлические суставчатые трубы в теневую сторону сада, на черных дроздов, — они деловито и озабоченно бегали под кустами вербены, вытаскивали из чернозема дождевых червяков. Небо, синее и прелестное, вечным покоем расстилалось над садом.
— А то — предоставить их самим себе, пусть развернутся во всем великолепии — Роллинг и Гарин, — и конец будет ближе, — проговорил Хлынов. — Этот мир погибнет неминуемо... Здесь одни дрозды живут разумно. А человек?
Хлынов отвернулся от окна.
Человек каменного века был значительнее, несомненно... Бесплатно, только из внутренней потребности, разрисовывал пещеры, думал, сидя у огня, о мамонтах, о грозах, о странном вращении жизни и смерти и о самом себе. Чорт знает, как это было почтенно... Мозг еще маленький, череп толстый, но духовная энергия молниями лучилась из его головы... А эти, нынешние, на кой чорт им летательные машины? Посадить бы франта с Капуцинского бульвара в пещеру, напротив палеолитического человека. Тот бы, волосатый дядя, его спросил: «Рассказывай, сын больной суки, до чего ты додумался за эти сто тысяч лет?»... «Ах, ах, — завертелся бы франт, — я, знаете ли, все больше наслаждаюсь, господин пращур... Сижу в бархатном кресле, и передо мной по экрану бегут, бегут, бегут тени... И я — в сладкой предполовой дремоте. А вся остальная жизнь, — ну там-войны, бросание в города нарывного газа, затем — вечная борьба, извиняюсь, и противный труд, — все это — к одной цели: сесть с пикантной дамочкой в кресла и наслаждаться тенями»... «Ух ты! — сказал бы на это пращур, впиваясь во франта горящими глазами, — а мне нравится дуууумать, я вот сижу и уважаю мой мозг, — он гораздо замечательнее, чем даже у обезьяны».
Хлынов замолчал. Усмехаясь, всматривался в сумрак палеолитической пещеры. Тряхнул головой:
— Чего добиваются Гарин и Роллинг? Щекотки. Пусть они ее называют властью над миром. Все же это не больше, чем щекотка. В прошлую войну погибло тридцать миллионов. Они постараются убить триста. Американские товары будут иметь свободное хождение по земле. Остатки человечества окончательно задремлют уже не в бархатных, а в золото-парчевых креслах. Духовная энергия в глубочайшем обмороке. Профессор Рейхер обедает только по воскресеньям. В остальные дни он кушает два бутерброда, — с повидлой и с маргарином, — на завтрак, и отварной картофель с солью к обеду. Такова плата за мозговой труд... И так будет, покуда мы не взорвем на всей земле пороховые склады, не утопим на глубине девяти тысяч метров в Тихом океане все оружие, Гарина посадим в сумасшедший дом, а Роллинга — бухгалтером в наркомфин... Разумеется, вы правы, Шельга, — нужно бороться... Что же, — я готов. Я все это продумал еще по дороге в Париж... Аппаратом Гарина должна владеть Россия...
— Аппарат будет у нас, — закрыв глаза, проговорил Шельга,
— С какого конца приступить к делу?
— С разведки, как полагается.
— В каком направлении?
— Гарин сейчас, по всей вероятности, бешеным ходом строит аппараты. В Вилль Давре у него была только модель. Если успеет построить, — тогда его трудно взять. Первое, — нужно узнать — где он строит аппараты.
— Понадобятся деньги.
— Поезжайте сегодня же на улицу Гренелль, переговорите с нашим послом, я его кое о чем уже осведомил. Деньги будут. Теперь второе, — нужно разыскать Зою Монроз. Это очень важно. Эта баба умная, жестокая, с большой фантазией. Она Гарина и Роллинга связала на смерть. В ней вся пружина их махинации.
— Простите, бороться с женщинами отказываюсь.
— Алексей Семенович, она посильнее нас с вами. Она много еще крови прольет. А хороша, обольстительна, — берегитесь...
Зоя Монроз вышла из круглой и низкой, в самом полу, ванной, подставила спину, — горничная накинула на нее мохнатый халат, — Зоя села на мраморную скамью, вся покрытая пузырьками морской воды.
Сквозь иллюминаторы скользили текучие отблески солнца, зеленоватый свет играл на мраморных стенах, ванная комната слегка покачивалась. Горничная, Фернанда, осторожно вытирала, как драгоценности, ноги Зои, — надела чулки и белые, на плоской подошве, туфли.
— Белье, мадам?
Зоя лениво поднялась, — на нее надели почти несуществующее белье. Она глядела мимо зеркала, заломив брови. Ее одели в широкую белую юбку и белый, морского покроя, пиджачек с золотыми пуговицами, — как это и полагалось для владелицы трехсоттонной яхты в Средиземном море.
— Грим, мадам?
— Вы с ума сошли, — ответила Зоя, медленно взглянула на горничную и пошла наверх, на шканцы, иными словами, на палубу, где с теневой стороны на низком камышевом столике был накрыт завтрак, — кофе, поджаренный хлеб, масло во льду, креветки, фрукты.
Зоя села у стола. Разломила кусочек хлеба и загляделась. Белый узкий корпус моторной яхты скользил по зеркальной воде, — море было ясно-голубое, немного темнее безоблачного неба. Пахло свежестью чисто вымытой палубы. Подувал теплый ветерок, лаская ноги под платьем.
На выгнутой, из узких досок, точно замшевой палубе стояли у бортов плетеные кресла, посредине лежал серебристый анатолийский ковер с разбросанными парчевыми, вышитыми подушками. От капитанского мостика до кормы натянут тент из синего шелка с бахромой и кистями.
Зоя вздохнула и принялась кушать.
Расставляя ноги, мягко подошел капитан, норвежец, — выбритый, румяный, похожий на взрослого ребенка. Твердо приложил два пальца к фуражке, надвинутой глубоко, на одно ухо:
— С добрым утром, мадам Ламоль! (Зоя плавала под этим именем и под французским флагом.)
Капитан был весь белоснежный, выглаженный, — косолапо, по-морски, изящный. Зоя оглянула его от золотых дубовых листьев на козырьке фуражки до шелковых носок. Осталась удовлетворена:
— Доброе утро, Янсен.
— Имею честь доложить, — курс — Норд-Вест-Вест, широта и долгота такие-то, на горизонте курится Везувий. Неаполь покажется меньше чем через два часа.
— Садитесь, Янсен.
Движением руки она пригласила его принять участие в завтраке. Янсен сел на заскрипевшую под сильным его телом камышевую банкетку. От завтрака отказался, — он ел уже в девять утра. Из вежливости взял чашечку кофе. Зоя рассматривала его загорелое лицо со светлыми ресницами, — оно понемногу залилось краской, чашечка задрожала. Не отхлебнув, он поставил ее на скатерть:
— Нужно переменить пресную воду и взять бензин для моторов, — сказал он, не поднимая глаз.
— Как, — заходить в Неаполь? Какая тоска! Мы встанем на внешнем рейде, если вам так уже нужны вода и бензин.
— Есть, на внешнем рейде, — тихо проговорил капитан.
— Янсен, ваши предки были морскими пиратами?
— Да, мадам.
— Как это было интересно, должно быть! Приключения, опасности, отчаянные кутежи, похищение красивых женщин... Вам жалко, что вы не морской пират?
Янсен молчал. Рыжие ресницы его моргнули. Рот поджался. По лбу пошли складки.
— Ну?
— Я получил хорошее воспитание, мадам.
— Верю.
— Разве что-нибудь во мне дает повод думать, что я способен на противозаконные и нелойяльные поступки?
— Фу, — сказала Зоя, — такой сильный, смелый, отличный человек, потомок пиратов. И все это, чтобы возить вздорную бабу по теплой, скучной луже. Фу!
— Но, мадам...
— Устройте какую-нибудь глупость, Янсен. Мне скучно...
— Есть.
Когда будет страшная буря, посадите яхту на камни.
— Есть, посадить яхту на камни...
— Вы серьезно это намерены сделать?
— Если приказываете...
Он взглянул на Зою. В глазах его была влага обиды и еще чего-то. Она потянулась и положила руку ему на белый рукав:
— Я не шучу с вами, Янсен. Я знаю вас всего три недели, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан. (У него сжались челюсти.) И кто все же способен на поступки, выходящие из пределов лойяльности, если они дают опьянение жизнью...
В это время на лакированной, сверкающей бронзою, лестнице с капитанского мостика показались сбегающие ноги. Янсен сказал поспешно:
— Время, мадам...
Вниз сошел помощник капитана. Отдал честь:
— Мадам Ламоль, без трех минут двенадцать, сейчас будут вызывать по радио...
назад