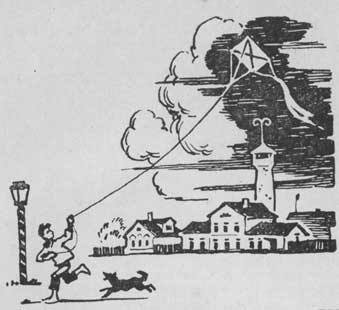
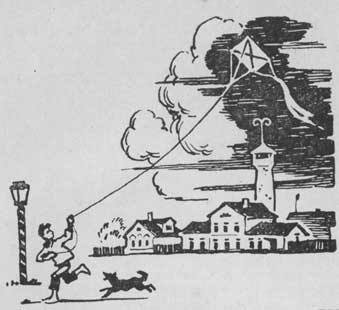
Примерно лет десять назад мне довелось написать небольшую книжку о Циолковском. Я начал ее с рассказа о том, как поздней осенью у Марии Ивановны и Эдуарда Игнатьевича Циолковских приключилась беда — заболел скарлатиной их девятилетний сын Костя. Разумеется, я написал и о тяжелом осложнении, которое оставила болезнь, — мальчик потерял слух.
Эта печальная история, сыгравшая немалую роль в формировании характера будущего ученого, показалась мне тогда исключительно важной. Но сегодня я уже не мог начать эту книгу так же, как десять лет назад. Мне не захотелось рассказывать ни о детстве, столь красочно описанном в автобиографии ученого, ни о его первых шагах к грамоте, которой он учился по томику русских народных сказок. Я не чувствовал себя вправе посвятить первые страницы книги и родителям моего героя, хотя они были в высшей степени достойными людьми. Обычные, вернее привычные, варианты начала отпадали один за другим. Они не годились. Их пришлось отбросить под напором новых, ранее неизвестных фактов.
Девяти лет от роду, как написано во всех биографиях ученого, Циолковский оглох. Наступило то, что он назвал впоследствии «самым грустным, самым темным временем моей жизни». Но вот совсем недавно Василий Георгиевич Пленков, краевед из города Кирова, совершил, казалось бы, невозможное: он прочитал неведомые, считавшиеся навсегда зачеркнутыми страницы великой жизни. Рассказом о поисках В. Г. Пленкова мне и хочется начать жизнеописание моего героя, одного из удивительнейших умов последнего столетия.
Пленков начал свою работу с просмотра адрес-календарей Вятской губернии — своеобразных справочников, рассказывавших о местных чиновниках. В двух календарях — за 1871 и 1875 годы — ему встретилось несколько строк об отце ученого — столоначальнике лесного отделения управления государственными имуществами Эдуарде Игнатьевиче Циолковском. Сведения были весьма скупы, но Пленков действовал настойчиво и методично. Страницу за страницей перелистал он и комплекты «Вятских губернских ведомостей». Как это ни странно, довольно редкая фамилия Циолковский встречалась там неоднократно. Газета упоминала о Нарцизе Циолковском — чиновнике для особых поручений при губернаторе, Николае Циолковском — чиновнике, прибывшем в Вятку из Уфы, генерал-майоре Станиславе Циолковском с дочерью Анной Станиславовной, К. Д. Циолковской и Ф. С. Циолковском, принимавших участие в постановке живых картин на сцене местного театра.
Почему в Вятке оказалось столько Циолковских? Какое отношение они имели к нашему герою? Эти вопросы еще ждут ответов. Из плеяды имен Пленков сумел расшифровать лишь одно...
Нет, не без пользы рылся краевед в старых газетах. В номере от 21 декабря 1868 года под рубрикой «Перемещение чиновников по службе» сообщалось, что приказом по министерству государственных имуществ за № 34 от 14 ноября 1868 года на место столоначальника лесного отделения «определен согласно прошению учитель землемерно-таксаторских классов при Рязанской гимназии, титулярный советник Эдуард Циолковский».
Попробуем поразмыслить над этой короткой заметкой. Прежде всего она говорит о бедности. Достаточно вспомнить романс Даргомыжского «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь...» и уже можно ничего не прибавлять по поводу веса этого чина в тогдашнем обществе.
Есть в этом сообщении еще одна любопытная деталь. Эдуарда Игнатьевича называют не лесничим, хотя он занимал такую должность в Ижевском, а учителем замлемерно-таксаторских классов при Рязанской гимназии. Значит, он приехал в Вятку не из Ижевского, а из Рязани? Но когда же и как попали Циолковские в Рязань?
Находка Пленкова стала первым лучом, который осветил нам «самое грустное, самое темное время» жизни Циолковского. Но, вчитываясь в текст заметки губернской хроники, найденной кировским краеведом, я никак не предполагал, что на мою долю выпадет честь еще шире приоткрыть раскрывшуюся щелочку... Это произошло несколько месяцев спустя. Работая в архиве Академии наук, я прочитал несколько писем Петра Васильевича Белопольского, племянника известного русского астронома, посланных Циолковскому в 1926 году. В первом же из них содержалось несколько строк по интересовавшему меня вопросу. «Я помню, — писал Белопольский, — что когда мне было лет девять, я жил в Рязани, на Вознесенской улице, в доме Климина, и в этом же даме жили Циолковские, два брата, немногим старше меня. Если это были вы, то, конечно, мне было бы очень интересно об этом знать».
Судя по следующему письму, в котором официальное «вы» сменилось дружеским «ты», Константин Эдуардович подтвердил этот факт. Старики любят вспоминать. Предавшись воспоминаниям, Белопольский писал Циолковскому: «Из нашей жизни детской я особенно помню один эпизод. Помню, как-то я, мой брат Вася, ты и твой брат залезли в чужой сад полакомиться малиной, и на нас пожаловались. Нас отец высек, а вас поставил на колени богу молиться. Когда после сечения мы выскочили во двор побегать, то вы из окна говорили нам: «Вас высекли, и вы уже играете, а мы должны еще целый час стоять на коленях». Потом, помню, вы куда-то из Рязани уехали...»
Письма Белопольского и сообщение «Вятских губернских ведомостей» стали ключом к разгадке еще одного важного документа — неопубликованной и еще до конца не расшифрованной автобиографической рукописи «Фатум». Последние страницы этой рукописи, написанной в 1919 году карандашом на листах бумаги, вырванных из какой-то конторской книги, содержат ряд неразборчивых конспективных заметок. Смысл этих заметок можно понять лишь при сопоставлении с документами, о которых шла речь выше. Заметки подтвердили то, что удалось узнать из «Вятских губернских ведомостей» и писем Белопольского: 1864 г., «Деревянный флигель Калеминой»; 1867—1868 г., «Переезд в другое отделение дома. На нашем месте Белопольские».
И все же эти новые, бесспорно точные, сведения о жизни Циолковского в Рязани были далеко не полными. По-прежнему ждали ответа вопросы: когда и почему переехала туда семья Эдуарда Игнатьевича? Ответ на первый из этих вопросов удалось обнаружить в архивной папке, где лежала нотариальная копия с «аттестата». Так официально назывался послужной список Эдуарда Игнатьевича. С чиновничьей обстоятельностью в нем было записано, что, прослужив в Ижевском с 1846 года, лесничий Циолковский «по домашним обстоятельствам от службы уволен с переименованием в коллежские секретари. По постановлению Рязанской палаты государственных имуществ согласно прошению определен делопроизводителем Лесного отделения 1860 года 3 мая».
Сомнений не оставалось, в 1860 году трехлетний Циолковский переехал с родителями в Рязань. Как мы увидим далее, он прожил там восемь лет — до 1868 года.
Почему произошел переезд? На этот вопрос ответить труднее. Тот же послужной список говорит нам, что Эдуард Игнатьевич принадлежал к породе кочевников. Окончив институт, он побывал в Олонецкой, Петербургской и Вятской губерниях, откуда и перебрался в Рязанщину. А сам Циолковский добавляет:
«Среди знакомых отец слыл умным человеком и оратором. Среди чиновников — красным и нетерпимым по идеальной честности... Вид имел мрачный. Был страшный критикан и спорщик... Отличался сильным и тяжелым для окружающих характером...» Сопоставив свидетельства послужного списка с этой характеристикой, недолго догадаться и о причинах частых переездов...
Константин Эдуардович — сын польского дворянина. Но вырос он в русской семье. И не потому, что мать Мария Ивановна Юмашева была русской с долей татарской крови. Русская земля и ее язык стали родными для будущего учителя. А при этом так ли важно, какая национальность записана в документах? Существеннее другое — ни ограниченные доходы, ни жизненные взгляды не позволяли чете Циолковских растить белоручек.
Обычно с детьми занималась мать. Правда, как-то раз собрал ребятишек и отец. Он проткнул спицей яблоко и попытался рассказать им про вращение земного шара. Но то ли учитель был излишне нетерпелив, то ли ученики чересчур малы — из урока ничего не вышло. А когда раздосадованный педагог ушел, ученики мигом съели модель планеты. Ничего не попишешь — маленький Циолковский просто еще не дорос до отвлеченных понятий. Что же касается конкретного, то тут жажда знаний была в избытке. Редкая игрушка избегала поломок. Ведь всегда самое интересное таится внутри...
Пройдут годы. Старый, переживший многое человек возьмется за перо. Перед его глазами всплывут картины далекого прошлого, а рука выведет уверенно и твердо: «Мы любим разукрашивать детство великих людей, но едва ли это не искусственно в силу предвзятого мнения... будущее ребенка не предугадывается...»
Минул год жизни в Рязани, делопроизводитель лесного отделения получил чин титулярного советника. На правах старшего учителя Эдуард Игнатьевич начал преподавать естественную историю в землемерно-таксаторских классах при Рязанской гимназии. Однако и тут что-то не заладилось.
Из рукописи «Фатум» ясно, что в 1868 году отец уехал в Вятку устраиваться на службу. Затем он вызвал туда всю семью. «Наш отъезд к отцу весной», — гласит краткая пометка Циолковского.
Но почему именно в Вятку? Пока мы можем только предполагать. Быть может, Эдуарда Игнатьевича потянуло на места, где он бывал в молодости. А может, захотелось поселиться поближе к землякам, полякам, сосланным в Вятку за участие в восстании? Не исключено, что часть многочисленных Циолковских, имена которых разыскал Василий Георгиевич Пленков, — родственники Эдуарда Игнатьевича. Во всяком случае, как установил Пленков, Нарциз Циолковский, чиновник особых поручений при вятском губернаторе, был родным братом Эдуарда Игнатьевича. Не он ли помог ему устроиться на службу?
Циолковские в Вятке. Доволен ли отец своей службой? Неизвестно. А вот Константину Вятка явно по вкусу. Особенно нравилась ему прекрасная, полноводная река, по которой ходили такие красивые пароходы. В ту пору, когда еще не существовало автомобилей, мальчишки отдавали свои симпатии пароходам и лошадям. Разумеется, Константин Циолковский не отставал в этом от своих сверстников...
Воду Циолковский очень любил. Всю жизнь он селился поближе к реке; за что, как мы узнаем, не раз жестоко платился. Реку Вятку он полюбил ocoбенно. Причиной тому была полная свобода, которую Эдуард Игнатьевич и Мария Ивановна предоставили детям. Константин не замедлил ею воспользоваться. Очень скоро он научился плавать.
Даже в половодье, самое опасное на реке время, мальчики устремлялись к воде. Спорт, которым они увлекались, был отнюдь не безобидным — катанье на льдинах, прыжки с одной на другую. Однажды, приняв за льдину грязную воду (вероятно, подвела близорукость), Константин прыгнул с той решительностью, на какую способен лишь одиннадцатилетний мальчишка, не понимающий, что он прыгает навстречу смерти.
Полем его смелых походов оказалась и старинная городская церковь. Вместе с приятелями он не раз лазил на ее полуразрушенную колокольню. Добраться до звонницы, ударить в колокол было одновременно и удовольствием и признаком незаурядной доблести. Но даже мальчишки ахнули, увидев однажды, как Константин полез еще выше — на маленький балкончик у самой маковки.
— Костя, не лезь, не надо!
Но то ли он не слышал, то ли не захотел услышать...
Вся Вятка лежала внизу, под ногами. Смотреть на город сверху было очень интересно. И тут Константин сделал то, чего уже явно не следовало делать. Он покачал ограду балкончика. Потраченное временем сооружение заходило под ногами. Стало страшно. Казалось, старая колокольня вот-вот вырвется из-под ног. Ощущение безудержного страха было настолько сильным, что запомнилось на всю жизнь и не раз являлось потом в сновидениях...
Тугоухость лишила мальчика многих впечатлений, привычных его здоровым сверстникам. Хотелось восполнить их чем-то иным, более острым. Отсюда, вероятно, и рискованные прыжки по льдинам и отчаянное лазанье к маковке старой колокольни.
Но всему приходит конец. Настал он и для детских забав. В 1869 году Эдуард Игнатьевич отдал Константина вместе с его младшим братом Игнатием в первый класс мужской Вятской гимназии. Двенадцати лет Циолковский стал гимназистом.
Циолковский гимназист? Позвольте, ведь он же никогда и нигде не учился? Да, так считалось до самого последнего времени. Однако Василий Георгиевич Пленков, об изысканиях которого я уже рассказал, сумел доказать иное. Многочисленные документы, обнаруженные им в Кировском областном архиве, не только убеждают нас, что Циолковский учился в Вятской мужской гимназии, но и рассказывают, как он учился!
Нет, большими успехами будущий ученый не блистал. За шалости попадал в карцер. Во втором классе остался на второй год, а в третьем и вовсе распрощался с гимназией.
Удивительно неожиданна находка Пленкова. А как долго ждала она своего открывателя! В самом центре Москвы, в библиотеке имени В. И. Ленина, хранится книга М. Г. Васильева «История Вятской гимназии за сто лет ее существования». На странице 36 в списке учеников, не окончивших курса, упоминается и Константин Циолковский. В 1873 году с десятью своими одноклассниками отчислен из гимназии «для поступления в тех. училище». Надо полагать, что учиться в гимназии было нелегко: в течение года из одного только третьего класса ушли одиннадцать учеников.
Мы еще вернемся к прощанию с гимназией. Ведь оно наступило через три года после поступления в нее. Сейчас интереснее разобраться в том, как Эдуарду Игнатьевичу удалось добиться, чтобы его полуглухого сына приняли в первый класс, как проходили школьные годы ученого...
О многом приходится уже гадать. Вероятно, далеко не последнюю роль в решении о приеме Константина Циолковского сыграла мягкость и доброта тогдашнего инспектора Николая Осиповича Шиманского. Вспоминая об этом человеке, одноклассник и товарищ братьев Циолковских (впоследствии крупный русский археолог) Александр Спицын писал: «Кто склонялся на просьбы и слезы моей матери и содействовал принятию в гимназию меня, плохо подготовленного ученика приготовительного училища? Кто ежегодно освобождал от платы за обучение меня, неблагодарного шалуна, терпеливо снисходя к моим упорно плохим успехам? А кто знает, сколько было в гимназии таких, как я?»
Портрет Шиманского набросан Спицыным так живо, что невольно думаешь: неужто поступление Константина Циолковского в гимназию, освобождение от платы за обучение (Пленковым найден и такой документ) обошлось без его участия?
Подпоясанные ремнями с тяжелыми гербовыми пряжками, отправились на занятия братья Циолковские. Бездну разной премудрости обрушила на мальчишеские головы гимназия.
В царство цифр ввел первоклассников Василий Петрович Хватунов. Он любил и свою строгую, суховатую науку и своих непоседливых мальчиков. Цифры в его объяснениях выглядели дружелюбными, веселыми, а главное — всемогущими. Впрочем, и уважения они требовали немалого. Попробуй допустить хотя бы малейшую небрежность — и поезда, поочередно отправлявшиеся в путь с разных страниц задачника, не встречались в условленное время на станциях «А» и «Б»...
А котда какой-нибудь незадачливый математик, наморщив лоб, пыхтел над тетрадкой, запутавшись в решении, Хватунов вдруг нарушал чинную тишину класса озорной репликой:
— Эй, подбери губы! Полицмейстер идет — отдавит!
За такими словечками Василий Петрович в карман не лазил. Их у него было более чем достаточно. Рассмешить учеников и самому заразительно рассмеяться было для него обычным делом. Уроки математики проходили интересно и весело. Жаль только, звонок частенько обрывал занятия на самом интересном месте...
Совсем иначе вел уроки русского языка Александр Кондратьевич Халютин. Тут уж было не до шуток. Лодырей и безобразников Халютин не жаловал. Не задумываясь, отправлял их в угол, выдворял из класса, оставлял без обеда и даже ставил на колени.
Латыни учил первоклассников Алексей Ильич Редников. Он поражал их тем, что даже в морозы (а в Вятке они бывали изрядными) не надевал пальто в рукава, накидывая его лишь на плечи. Войдя в класс, Редников прежде всего проверял, открыты ли форточки. Любителей латыни сыскалось среди гимназистов немного, а потому Редников особенно благоволил к прилежным, успевающим ученикам.
Каждый из педагогов требовал внимания к своему предмету. Предметов было много, и учиться было нелегко. Что же мог получить в гимназии полуглухой Константин Циолковский? Как давалась ему школьная премудрость? Константин Эдуардович ответил на эти вопросы, написав в рукописи «Фатум»: «Учиться в школе я не мог. Учителей совершенно не слышал или слышал одни неясные звуки. Но постепенно мой ум находил другой источник идей — в книгах...»
Несмотря на то, что, не посещая занятий, невозможно слышать неясные звуки вместо голосов учителей, среди биографов Циолковского нашелся и такой, который в 1940 году опубликовал в своей книге этот отрывок рукописи, как подтверждение того, что Константин Эдуардович никогда и нигде не учился. Не правда ли несколько странное толкование?
Заглядывая в детство Циолковского, невольно задаешь себе вопрос: почему так глухо вспоминает Циолковский гимназию? Вероятно, потому, что слишком мало из нее извлек. Назвав себя самоучкой, он, право, не слишком согрешил против истины.
Еще одно обстоятельство, которое нельзя обойти молчанием: на тринадцатом году жизни, незадолго до того дня, когда пришлось расстаться с гимназией, Константин потерял мать. Веселая, жизнерадостная, «хохотунья и насмешница», как аттестует ее сам Циолковский, Мария Ивановна нежно любила сына. Она делала все от нее зависящее, чтобы маленький калека не чувствовал себя ущемленным, обиженным. Это она научила Константина читать и писать, познакомила с начатками арифметики.
Надо думать (тут мы ограничены рамками предположений), что, несмотря на хлопотливые заботы о семье, Мария Ивановна находила время и силы для занятий с больным сыном. Плохо пришлось Константину, когда Мария Ивановна умерла...
С отцом отношения были иные. «Он был всегда холоден, сдержан... Никого не трогал и не обижал, но при нем все стеснялись. Мы его боялись, хотя он никогда не позволял себе ни яззить, ни ругаться, ни тем более драться...» Так писал о своем отце Циолковский, и за этой характеристикой угадываются события, происшедшие в семье после смерти Марии Ивановны.
Лишенный поддержки, Константин учится все хуже и хуже. А затем наступает день, когда он вынужден променять плохие отношения с учителями на многолетнюю дружбу с книгами. При каких обстоятельствах это произошло, сейчас сказать трудно. Ведь именно об этом времени писал Циолковский: «Я стараюсь восстановить его в своей памяти, но ничего не могу сейчас больше вспомнить...»
Горе придавило осиротевшего мальчика. Гораздо острее ощутил он свою глухоту, делавшую его «изолированным, обиженным изгоем». Пришлось покинуть гимназию. Одиночество стало еще сильнее, еще тягостнее. И тогда, собравшись с силами, он гонит прочь эту проклятую слабость. Ее сменяет яростное желание «искать великих дел, чтобы заслужить одобрение людей и не быть столь презренным...».
В отличие от гимназических учителей книги щедро оделяют его знаниями и никогда не делают ни малейших упреков. Книги просто не пускали вперед, если что-то не усваивалось, не укладывалось в голове. И странное дело — то, что с таким трудом доходило на уроках в гимназии, после размышлений над книжными страницами становилось простым и понятным. «Лет с четырнадцати-пятнадцати, — пишет об этой поре Циолковский, — я стал интересоваться физикой, химией, механикой, астрономией, математикой и т. д. Книг было, правда, мало, и я больше погружался в собственные мои мысли.
Я, не останавливаясь, думал, исходя из прочитанного. Многого я не понимал, объяснить было некому и невозможно при моем недостатке. Это тем более возбуждало самодеятельность ума...» Так благодаря книгам нашел глухой мальчик свое место в жизни.
«Всем хорошим во мне я обязан книгам!» — сказал однажды Горький. Циолковский мог бы подписаться обеими руками под этими словами. А когда много лет спустя известный популяризатор науки Яков Исидорович Перельман спросил, какая из книг особенно сблизила его с наукой, Константин Эдуардович, не задумываясь, ответил на вопрос друга:
— «Физика» Гано!
Это очень старая книга. Вышедшая во Франции в середине XIX века, она быстро завоевала добрую славу во многих странах. Достаточно сказать, что только в Англии «Физика» Гано выдержала около двух десятков изданий. В 1866 году ее выпустил на русском языке известный издатель Ф. Павленков, находившийся в ссылке в той же Вятке, где жила семья Циолковских. Просматривая эту книгу, я видел ясную картину того, как читал Циолковский этот пухлый, объемистый том, напечатанный на тонкой бумаге.
«Полагаем, что книга эта не нуждается в рекомендациях, — писал Ф. Павленков в предисловии к новому изданию 1868 года, — что касается до свежести сообщаемых ею сведений по некоторым отраслям, то достаточно сказать, что в нее успело перейти описание таких приборов, которые впервые появились в своем усовершенствованном виде на последней Всемирной выставке, то есть в настоящем году...»
Радостно билось сердце Циолковского, когда прочитал он эти строки. Он понял, что дверь в неведомый еще мир науки открыта. Чтобы войти в нее, необходимо лишь одно — работать.
Константин не успел проштудировать и полторы сотни страниц, когда ему встретился отдел, заставивший особенно насторожиться. В заглавии стояло одно слово: «Аэростаты».
Методично и последовательно изложил Адольф Ганс историю и устройство воздушных шаров. Однако окончательный вывод выглядел плачевно: «...нужно заметить, что истинной пользы от аэростатов можно ждать только тогда, когда найдутся средства управлять ими. Все подобные попытки до сих пор оказывались безуспешными...»
Значит, навсегда игрушка ветров? Значит, никакой перспективы? Эти вопросы тотчас же возникли у Циолковского. Вероятно, именно тогда, впервые задумавшись над несправедливостью, выпавшей на долю воздушных шаров, он поставил перед собой задачу, которую с исключительным упорством разрабатывал на протяжении всей жизни.
Под впечатлением прочитанного Константин попробовал сделать небольшой водородный шар с оболочкой из бумаги. Ничего не вышло: не было водорода. Впрочем, скоро юноша понял, что шар все равно бы не полетел: пористой бумаге не под силу удержать газ. А понять ошибку для исследователя уже половина успеха.
Пористой бумаге не под силу удержать подъемный газ? Значит, надо придумать какую-то другую оболочку. Несколько лет спустя он придумал — металл! Но мысль о металлической оболочке придет позднее. А пока юный Циолковский еще бредет ощупью по новому для него миру знаний, делая одно открытие за другим.
Однажды, просматривая учебник по землемерному делу, завалявшийся среди книг отца, Константин заинтересовался определением расстояний до недоступных предметов. По рисунку и описанию, приведенным в книге, он изготовил угломерный инструмент — астролябию. Конечно, самоделке далеко до инструментов настоящих землемеров. Но тем не менее астролябия действовала. Юноша навел ее на ближайшую пожарную каланчу и установил: расстояние до каланчи 400 аршин. Затем проверил результат шагами — сошлось. «С этого момента, — писал впоследствии Циолковский, — я поверил теоретическому знанию».
И бумажный воздушный шар и самодельная астролябия выглядят незначащими фактами. Нет, они совсем не мелки. Эти самоделки рассказывают о формировании того, что можно назвать «научным почерком» Циолковского, характерным для него стилем работы. Суть этого стиля — что можешь, проверь опытом.
Привычка делать все собственными руками появилась у Циолковского еще с той поры, когда он потерял слух. Мальчик любил мастерить игрушки. Материалом служили бумага и картон. Сургуч и клей соединяли части, аккуратно вырезанные ножницами. Из ловких рук мальчугана выходили домики, санки, часы с гирями...
На базаре за бесценок продавались старые кринолины. Пышные дамские юбки к тому времени уже успели выйти из моды. Звенящие стальные пластинки каркасов, отработавших свой век на дворянских балах, стали бесценным материалом — пружинами самодвижущихся колясок и локомотивов.
Однажды Константин увидел токарный станок и загорелся желанием сделать такой же.
— Ничего не выйдет! — говорили знакомые отца.
Но они не знали характера Константина. Спустя немного времени из-под резца самодельного станка уже выбегала ароматная стружка, и деревянные болванки превращались в аккуратно обточенные детали будущих машин.
Постройка станка существенно изменила мнение Эдуарда Игнатьевича о своем сыне. И уж совсем иными глазами посмотрел он на него после спора, который затеял Константин с одним из товарищей отца. Человек, с которым поспорил юный Циолковский, изобрел «вечный двигатель». Схема этого двигателя выглядела настолько правдоподобно, что даже петербургские газеты написали об успешном изобретении. Однако юный Циолковский нашел ошибку, допущенную изобретателем.
С присущей ему убежденностью и прямолинейностью Константин доказывал нереальность очередного «perpetuum-mobile». Никакие ссылки на авторитет петербуржцев не могли поколебать юношу. Это было одно из первых в жизни Циолковского восстаний против авторитетов. Как мы увидим в дальнейшем, он никогда и ничего не воспринимал со слепой, безоговорочной верой.
Но не только о «вечном двигателе» спорят в доме Циолковских. Временами Константин принимался рассуждать о материях, пугавших его родных. Ему, видите ли, мало места на земле. Он мечтает о полетах к звездам! Хорошо еще, что эти крамольные бредни не слышит никто из посторонних. И, пуская в ход всю полноту отцовской власти, Эдуард Игнатьевич решительно обрывал такого рода споры. Бог знает куда могут завести подобные мысли, а ведь он желал сыну только хорошего.
Вероятно, не раз и не два жарко спорили по этому поводу отец и сын. Почти шестьдесят лет спустя, в 1928 году, Константин Эдуардович вспомнил об этих спорах. Вспомнил и записал: «Еще в ранней юности, чуть не в детстве, после первого знакомства с физикой я мечтал о космических путешествиях. Мысли эти я высказывал среди окружающих, но меня останавливали как человека, говорящего неприличные вещи».
Циолковский еще слишком молод и недостаточно образован. Он не успел найти подтверждений своей правоты и вынужден отступить под нажимом старших. Но расстаться с мечтой о проникновении в космос он не в силах. Отсюда и его гордые слова, написанные спустя много лет: «Мысль о сообщении с мировым пространством не оставляла меня никогда».
Шестнадцатилетний подросток сумел поставить перед собой благородную цель. Но хватит ли у него сил достичь ее? Сумеет ли он разорвать тенета безденежья, принесшие столько горьких минут отцу?
Обо всем этом задумывается не только Констан: тин, но и Эдуард Игнатьевич. Способности сына, необычный склад ума очевидны. Но что могут принести способности, если на них не обратят внимания знающие люди? Надо послать Константина в Москву или Петербург.
Воображению Эдуарда Игнатьевича рисовались яркие картины: Константин самостоятельно работает. Быстро накопив знания, он сдаст экзамены за техническое училище или построит какую-нибудь новую удивительную машину. Эдуарду Игнатьевичу грезится, как сын беседует с профессорами, принимающими живейшее участие в его судьбе...
Мечты, мечты!.. Как часто расходитесь вы с тем, что приносит жизнь! Вот Циолковский снимает гимназическую форму. В руках у него документ, что он отчислен из гимназии для поступления в техническое училище. Тетка печет подорожники. Отец еще раз пересчитывает скромную сумму денег, которую может вручить сыну вместе с родительским напутствием. В последнюю минуту все стихают и присаживаются. Так велит обычай: перед дорогой.
Полный веры в будущее, покидает юный путешественник Вятку. Чем встретит его Москва?