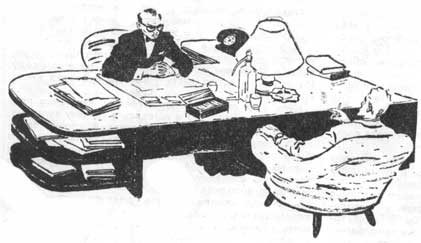
| Д |
Первый произошел в 1927 году, когда Митоя учился в одном из крупнейших университетов США. Однажды какой-то весьма посредственный студент, член «Американского легиона»1, нисколько не стесняясь его присутствием, громогласно сказал: «Эта талантливая макака до подлости вежлива, а подла она в меру своей талантливости». Все, кто слышал это, даже те, кого Митоя считал добрыми товарищами, расхохотались. Его самолюбие, самолюбие японца, было уязвлено, хотя он убеждал себя, что остальные студенты-американцы отнюдь не заодно с этим завистливым подлецом.
Другой случай относится к сентябрю 1945 года. Только что на борту линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Доктор Митоя стоял у окна госпиталя и с ужасом глядел на то, что еще так недавно казалось невероятным: американские войска проходили по улицам Токио. «Джипы» и танки, облепленные здоровенными солдатами в касках набекрень, с ревом и грохотом катились бесконечной чередой. Один из танков, неуклюже развернувшись на повороте, сбил фанерный киоск продавца цветов, — к счастью, пустой. Хохот, свист, улюлюканье заглушили даже лязг металла. Доктор Митоя поспешно отошел от окна. Теперь в его сердце рядом с неприязнью прочно поселился страх.
Да, доктор Митоя не любил и боялся американцев, и довольно частое общение с ними в последние годы не изменило этих чувств.
И сейчас, 18 марта 1954 года, он растерялся, увидев в своем кабинете сухощавого седого янки с усталым лицом, в куртке защитного цвета, заправленной в военные брюки. Когда же он, приглядевшись, узнал гостя, его растерянность и досада только увеличились. Впрочем, он сразу овладел собой и спокойно, не спеша поднялся из-за широкого стола. Гладкое лицо Митоя, обтянутое пергаментной кожей, ничего не выражало, а черные глаза под толстыми стеклами черепаховых очков разглядывали гостя с равнодушным недоумением.
— Позвольте представиться, — сказал американец. — Нортон, начальник Хиросимского отделения АВСС2.
1 Американская реакционная организация.
2 АВСС - комиссия по наблюдению за жертвами атомной бомбы. Создана в Японии после взрыва атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года.
Доктор Митоя учтиво поклонился и прижал руку к левому боку.
— Я уже имел удовольствие встречаться с вами, мистер Нортон, — сказал он. — Кажется, это было два года назад, мы виделись у нашего министра здравоохранения господина Хасимото. Садитесь, пожалуйста.
Директор госпиталя прекрасно говорил по-английски, и только иногда мягкое «р», проскальзывавшее вместо непривычного для японца «л», выдавало, что этот язык не является его родным.
Нортон погрузился в кресло напротив Митоя и вытянул ноги. Митоя опустился на стул, пододвинул через стол гостю сифон и небольшой лакированный ящик.
— Содовая, сигареты, прошу вас.
— С удовольствием. А, «Лаки Страйк»! Совсем как в Штатах в добрые студенческие времена, не правда ли? Благодарю вас.
Американец закурил.
— Вы, конечно, не очень удивлены моим посещением, мистер Митоя, не правда ли?
— Во всяком случае, оно оказывает мне большую честь и доставляет удовольствие, — механически отозвался тот.
— Это после хлопотливого служебного дня? — рассмеялся американец. — Не будем тратить драгоценного времени на комплименты. С вашего разрешения я перейду прямо к делу.
— Прошу вас, мистер Нортон.
Но Нортон вдруг замялся. Его почему-то смущала зеленоватая полутьма над бумажным абажуром настольной лампы, голые стены, непроницаемое, как маска, темное лицо хозяина, сидевшего очень прямо по ту сторону стола.
— Коротко говоря, — немного резко произнес Нортон, — меня интересуют два пациента, поступившие к вам пятнадцатого... Но начнем по порядку, дорогой коллега. Как случилось, что рыбаки из Коидзу попали к вам? Кто их надоумил?
— Им посоветовал обратиться к нам мистер Тоои, городской врач Коидзу. Вам, оказывается, известно, что пациенты прибыли оттуда?
— Да, я это знаю. Кстати, как далеко этот Коидзу от Токио?
— В нескольких часах езды. Маленький приморский городок около Сидзуока. Так вот, доктор Тоои предположил сначала, что у них «бери-бери». Внешние симптомы были как будто налицо: потемнение кожи, нарывы, гнойные выделения и так далее. Но было и другое, чего Тоои объяснить никак не мог. У судового механика Мотоути прядями выпадали волосы. Больные не испытывали характерной для «бери-бери» ломоты в суставах. Они были очень слабы и отказывались от воды и пищи. В распоряжении Тоои не было почти никаких средств для производства необходимых анализов. Но он имел дело с «бери-бери» почти всю свою жизнь, и ему стало ясно, что болезнь рыбаков незнакома ему. Он послал двух пациентов: механика Мотоути и молодого рыбака Хомма — к нам с письмом.
— Двух?
— Да, остальные пока остались у него в больнице. Двадцать один человек.
— И вы, разумеется, сразу поняли, что это за болезнь?
— Нет, не сразу.
Митоя теперь не испытывал ни малейших сомнений относительно того, что Нортону прекрасно известно все о «Счастливом Драконе». Непонятно было только, чего он хочет от директора госпиталя. Но Митоя был терпелив и осторожен. Он выдвинул один из ящиков стола и, роясь в нем, продолжал:
— Никаких возбудителей болезни найти не удалось. Но сразу бросились в глаза два обстоятельства. Во-первых, необыкновенная бедность крови лейкоцитами, во-вторых, ненормальное содержание белка в моче. Это, конечно, ничего не объясняло, и я обратился к обстоятельствам, предшествовавшим заболеванию.
— Что сами пациенты думают о своей болезни?
— О, они ничего не могли сказать. Так же, как и я... тогда.
Нортон быстро взглянул на Митоя. Тот вертел в руках, складывая и разворачивая, листок бумаги, который он достал из стола.
— Вы хотите сказать, что теперь...
Митоя кивнул головой.
— Вот именно, мистер Нортон. Я вспомнил кое-какие газетные сообщения — кажется, это было полмесяца назад, если я не ошибаюсь, — и сопоставил симптомы таинственного заболевания с некоторыми явлениями, свидетелями которых оказались рыбаки во время своего последнего плавания, а также с данными одного документа, случайно сохранившегося у меня со времен войны. Это дало мне возможность сделать кое-какие выводы.
Наступило молчание. Нортон старался собраться с мыслями.
— Вы упомянули о некоторых явлениях, коллега, — сказал он. — Не откажите в любезности...
Доктор Митоя рассказал все, что ему было известно со слов рыбаков.
— ...после этого на них посыпался белый, похожий на муку порошок — «пепел горящего неба», как они говорят. Он густо сыпался сверху, словно снег.
— Совершенно верно. — Американец удовлетворенно кивнул. — Порошок, похожий на муку... Значит, 1 марта они находились в районе Маршалловых островов, вы сказали?
— Конечно, это только мое предположение, мистер Нортон. Но ясно одно: несчастные рыбаки случайно оказались в той части океана, где ваши соотечественники испытывали какую-нибудь ужасную военную новинку. В результате характерная болезнь: выпадение волос, нарывы на теле, слабость, уменьшение числа лейкоцитов. Я обратился к одному старому документу, он сохранился у меня с тех времен, когда я работал с жертвами Хиросимы и Нагасаки. — Митоя мельком посмотрел на бумагу, лежавшую перед ним на столе. — Вот, пожалуйста. Это история болезни некоего Асадзо Тадати, умершего в начале сорок шестого года. Симптомы совпадают полностью. Интересуетесь?
Нортон покачал головой.
— У меня в отделении огромный архив подобных бумаг. Должен признать, что ваша логика безупречна. И ваш вывод?
— Несомненно, они поражены жесткой радиацией.
— Но интересно, — продолжал Нортон, — что вы думаете об этом пресловутом пепле? Какую он играет роль?
— Право, не знаю, мистер Нортон. Вы слишком многого хотите от меня. Я ведь всего-навсего обыкновенный терапевт... Хомма, их мальчишка-кок, привез нам немного, граммов пятьдесят. Обыкновенный известняк, ничего больше.
Рука Нортона с сигаретой остановилась на полпути ко рту.
— Известняк... — медленно проговорил он и вдруг торопливо закивал головой: — Да, разумеется, известняк, мел, кораллы... И вы не заметили в нем ничего особенного?
— Особенного? Нет. А вы полагаете, что он, этот известняк, имеет какое-нибудь отношение...
— О-кэй, коллега. — Нортон притушил сигарету в пепельнице и выпрямился. — Теперь мне все совершенно ясно, и я могу рассказать вам, что случилось.
Доктор Митоя удивленно поднял реденькие брови.
— Дело в том, — продолжал Нортон, — что вы оказались очень недалеко от истины, предположив, что ваши рыбаки явились жертвой мощного радиоактивного излучения. Но это не была жесткая радиация, то есть гамма- и нейтронное излучение в момент взрыва, хотя, возможно, ваши пациенты могли пострадать и от нее. Вы, очевидно, читали в газетах, что первого марта на небольшом атолле в районе Бикини было проведено испытание нового сверхмощного вида вооружения — термоядерной, или, как ее чаще называют, водородной, бомбы.
Митоя молча кивнул.
— Чудовищной силы взрыв, — продолжал Нортон после минутной паузы, — измельчил в порошок атолл, поднял миллионы тонн этого порошка в воздух и разбросал на сотни миль вокруг.
— «Небесный пепел», — пробормотал Митоя.
— Это и был «небесный пепел», совершенно верно. Но самым страшным оказалось то, что этот пепел не просто известковая пыль. Температура в миллионы градусов, возникшая в момент взрыва, придала элементарным частицам — продуктам термоядерной реакции — такие скорости, что они получили возможность проникать в ядра атомов всех веществ, находящихся в районе взрыва. В ядра атомов солей океанской воды, газов, из которых состоит воздух, в ядра атомов, входящих в состав коралла и материалов, из которых была построена оболочка бомбы. Как правило, всякий атом, ядро которого захватило постороннюю частицу, становится радиоактивным. Теперь вы понимаете, коллега? Излучение непосредственно от взрыва могло и не угрожать рыбакам, поскольку оно поглощается на сравнительно недалеких расстояниях от эпицентра. Но масса радиоактивной коралловой пыли, осыпавшая их с неба, оказалась для них роковой. По виду она ничем не обнаруживала своих страшных свойств. И несчастные вдыхали ее, поглощали с пищей, она забивалась в уши, в глаза, в складки кожи... а ведь известно, коллега, что рыбаки в плавании не отличаются чистоплотностью, и они не смывали ее, вероятно, в течение нескольких дней. Они плыли домой, а радиация делала свое дело, и только теперь ее действие стало сказываться в полной мере. В клетках живого человеческого организма под ударами смертельного излучения рушится молекула за молекулой...
— Мне все ясно, мистер Нортон, — прервал его Митоя. Он морщился, словно от боли. — По-моему, это очень похоже на преступление.
Нортон насупился.
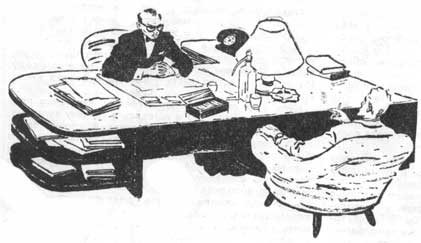
— Вы понимаете, коллега, мне не приходится оправдываться. Это большая неприятность. Очень большая. Но, по-моему, вы сгущаете краски. Преступление... Я бы сказал, несчастный случай. Вашим рыбакам просто не повезло, вот и все. И если это вас утешит, пострадали не только они. Проклятой пылью были осыпаны все близлежащие атоллы, в том числе два или три обитаемых. Поражено более двух сотен туземцев и несколько американцев. Американцев, коллега! Правда, их сразу отправили в госпиталь на Кваджелейн, и их состояние, кажется, уже не вызывает опасений. Если бы капитан «Счастливого Дракона» догадался подать сигнал бедствия, с его экипажем тоже все было бы в порядке. И потом, кто виноват, что они забрались в запретную зону? Не смотрите на меня так, будто я виноват во всем случившемся. Конечно, наши военные проявили известную неосторожность. Поверьте мне, я никогда не был сторонником этих... этих экспериментов. Но наше дело — лечить, а не разбираться в сложных и спорных политических вопросах.
Он помолчал, покусывая нижнюю губу.
— Скажите, пожалуйста, коллега, как вы намерены лечить этих людей? Насколько мне известно, у вас и у вашего персонала нет ни необходимых знаний, ни оборудования, ни медикаментов. Или я ошибаюсь?
Директор госпиталя склонил голову в знак того, что гость не ошибается.
— Убедившись в правильности моих догадок относительно природы их заболевания, я сразу же решил обратиться к профессору Удзуки. Сегодня я звонил к нему и просил зайти, но... — Митоя был настолько раздражен, что позволил себе подпустить собеседнику шпильку: — У господина профессора Удзуки, вероятно, и без того слишком много дел подобного рода. Он так и не пришел.
— Да, — спокойно подтвердил Нортон, — за последнее время в отделения нашей комиссии поступили новые партии жителей Хиросимы и Нагасаки с рецидивами лучевой болезни. Дела сейчас там по горло и для наших и для ваших специалистов. Но мистер Удзуки не пришел к вам совсем по другой причине.
— А именно?
— По предложению властей он подготавливает для экипажа «Счастливого Дракона», в том числе и для ваших пациентов, места в другом госпитале — в Первом Национальном.
Митоя только слегка пожал плечами. Выражение его лица не изменилось.
— Еще один вопрос, мистер Нортон, если позволите. Насколько я понял, профессор Удзуки не почтил меня своим посещением потому, что взять на себя этот труд решили вы. Не скажете ли, чему я обязан...
Нортон усмехнулся и нерешительно поскреб подбородок.
— Видите ли, — сказал он мягко, — мы считаем, что пристальное наблюдение за ходом болезни... и за ходом лечения, конечно, может дать мировой науке массу ценнейшего материала по особенностям лучевых болезней, тем более, тут такой необычный случай.
Директор госпиталя Токийского университета сегодня удивлял самого себя. Он грубо, почти вызывающе сказал:
— Американские ученые будут экспериментировать с японскими морскими свинками? Так это следует понимать? А если морские свинки откажутся от экспериментов?
Нортон нахмурился.
— Повторяю, коллега, вы слишком сгущаете краски. Я понимаю ваше настроение и... и все такое. Но давайте смотреть на вещи здраво. Следует не препираться, а стараться облегчить участь этих несчастных. — Он помолчал и угрюмо сказал: — Не будете ли вы любезны показать мне моих будущих пациентов?
Гость и хозяин поднялись одновременно. У дверей Митоя задержался, вежливо пропуская вперед Нортона.
| Х |
— Тикусё... А, тикусё-мэ-э1...
Остальные больные и служитель молчали. Капитан Одабэ лежал, завернувшись в простыню с головой, сэндо Тотими, сморщившись, тайком от служителя занимался запретным делом — выдавливал на руке зудевший гнойник. Механик Мотоути подобрал брошенную служителем газету и читал про себя, шевеля губами. Потом он вдруг приподнялся на локте и крикнул, не отрывая глаз от текста:
— О-ой, Одабэ-сан! Сэндо!
Капитан высунул лицо из-под простыни. Сэндо, не оборачиваясь, прохрипел:
— Чего тебе, Тюкэй?
— Слушайте, что сказал о нас председатель американской атомной комиссии господин Люкс Страусе. Он заявил, что в момент взрыва «Счастливый Дракон» находился... Э-э, где это? А, вот: «...находился западнее атолла Бикини, в пределах двухсотмильной запретной зоны». Ну, не дурак ли этот янки? Не умеет отличить запада от востока, а еще председатель комиссии...
— Пропади он пропадом со всеми вместе, — слабым голосом отозвался Одабэ. Лицо его перекосилось.
Мотоути бросил газету.
— Болит? — сочувственно спросил он.
— Огонь у меня внутри. — Одабэ скрипнул зубами и зарылся лицом в подушку.
Сэндо вытер пальцы об матрац, оправил простыню и мрачно прохрипел, щуря слезящиеся глаза:
— Всякому дураку в Японии известно, что когда взорвалась эта проклятая водородная штука, мы были милях в сорока к востоку от их зоны. Янки будут теперь выкручиваться, чтобы не платить убытки.
Хомма наконец перестало тошнить. Служитель обтер ему лицо влажной губкой и вынес тазик.
В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, и в палату вошло несколько человек в белых халатах. Это были врачи, хотя случалось, что столь же бесцеремонно входили к больным и репортеры. Мотоути сразу узнал длинного седого американца, который осматривал его и Хомма неделю назад в присутствии доктора Митоя.
Нортон, возвышавшийся среди других на целую голову, вошел вслед за двумя японскими врачами, остановился у койки Хомма и окинул палату быстрым внимательным взглядом. Его сопровождали двое врачей с чемоданчиками из блестящей кожи и низкорослый японец, по-видимому, нисэй2, в американской военной форме, видневшейся из-под распахнутого халата.
Некоторое время все молчали. Больные с враждебным любопытством рассматривали иностранцев. Врачи-японцы стояли поодаль с бесстрастными, холодными лицами, словно желая показать, что в этом визите они играют только подчиненную роль.
— Хау ар ю гэттинг он, бойз? — спросил Нортон, обращаясь, судя по направлению его взгляда, к больным.
— Как поживаете? — негромко перевел один из врачей-японцев, опустив фамильярное «бойз» — «ребята».
Мотоути отвернулся, Хомма закрыл глаза. Одабэ сделал попытку приподняться, но с глухим стоном снова упал на подушку. Только сэндо, оскалив желтые зубы, бросил:
— Очень плохо.
— А, варуй, варуй, — уловив знакомое, видимо, слово, закивал Нортон. Врачи, стоявшие у двери, заулыбались. — Ничего, скоро будет ёросий3.
1 Сволочи.
2 Японец американского происхождения.
3 Варуй - плохо; ёросий - хорошо (яп.).
Нортон заговорил по-английски, и стоявший с ним рядом нисэй перевел, что американцы чрезвычайно удручены и опечалены случившейся неприятностью и со всей энергией, прилагая все силы и умение, постараются исправить положение. Прежде всего необходимо правильное лечение. Болезнь очень сложна и тяжела, скрывать это не приходится, но потому-то американское правительство и послало их, лучших врачей по такого рода заболеваниям, чтобы загладить инцидент, «о котором, — повторяю еще и еще раз, — говорил Нортон, — оно глубоко сожалеет».
— Для установления правильного курса лечения необходимо ознакомиться с вашим состоянием, а также выяснить некоторые подробности истории болезни, то есть уточнить обстоятельства, при которых вам было нанесено лучевое поражение. Затем мы возьмем у вас для анализа кровь и мочу, назначим процедуры, лекарства, диету... Я полагаю, — заключил он, оглядываясь на своих коллег, — что если нам удастся избрать правильный путь, вы снова будете на ногах через какой-нибудь месяц. А сейчас давайте приступим.
Он спросил о чем-то японских врачей, те кивнули в знак согласия. Два американца подошли к столу и стали извлекать из чемоданчиков какие-то коробки и футляры, резиновые трубки и странного вида стеклянные предметы в рамках из лакированного дерева.
— Начнем осмотр, — перевел нисэй.
Но тут произошло нечто непредвиденное. Хомма, которого собирались осматривать первым, отодвинулся к стене, натянул простыню до подбородка и сказал сдавленным голосом:
— Не хочу.
Американцы удивленно переглянулись, поглядели на него, на японских врачей, стоявших с прежним выражением равнодушия на лицах, затем повернулись к нисэю. Тот, словно спохватившись, перевел.
— Но почему? — спросил Нортон.
Нисэй, брезгливо скривившись, пожал плечами. Тогда Нортон легонько потянул с Хомма простыню.
— Не хочу, — упрямо повторил тот, плотнее прижимаясь к стене.
— Он не хочет! — крикнул Мотоути яростно. — И никто из нас не хочет! Пусть нас лечат японские врачи!
В наступившей тишине отчетливо были слышны слова перевода. Нортон побагровел.
— Что это значит? — зловеще-спокойно спросил он, повернувшись к японским врачам.
Мотоути, уже не так громко, добавил:
— Скажите им, что мы не хотим быть мору-мотто — подопытными животными для их опытов!
— Я, кажется, знаю, кто придумал эту... недостойную комедию, — пробормотал Нортон сквозь зубы, — но никогда не думал, что он зайдет так далеко. Это — неслыханное варварство.
Он повернулся к Мотоути и мягко сказал:
— Не надо так шуметь и упрямиться, мой друг. Я понимаю ваше настроение. Но поймите, дело идет о вашем здоровье, о ваших жизнях! Нельзя шутить с такими вещами. Вы не должны мешать нам выполнить свой долг.
— Сначала заплатите нам за то, что искалечили нас, — прохрипел вдруг сэндо.
Это было так неожиданно и неуместно, что Мотоути поперхнулся, японские врачи вздрогнули, а переводчик-нисэй прыснул и зажал рот рукой.
— Извините, пожалуйста, — сказал нисэй просительно, — но послушайте меня. Напрасно вы поворачиваете дело таким образом. О денежном вознаграждении за понесенные вами убытки будут договариваться дипломатические представители. Господа американские врачи не имеют к этому никакого отношения. Поверьте мне. Эти люди могут помочь вам. Это врачи с мировыми именами.
Тогда Мотоути, остановив на Нортоне полный тяжелой ненависти взгляд, выпалил:
— Все знают, что янки забирают на свои лечебные пункты больных атомной горячкой из Хиросимы и Нагасаки. Но кто видел хоть одного выздоровевшего?
Нисэй развел руками и быстро перевел. Нортон покачал головой.
— Вы не совсем правильно понимаете обстановку, мой мальчик. Больные атомной горячкой получили совсем другие поражения. Нам, врачам-специалистам, это виднее. Мы думаем, что с вами дело обстоит гораздо лучше.
Он повернулся к японским врачам, словно приглашал их в свидетели. Один из них проговорил после недолгой паузы:
— Думаю, что вы ничего не потеряете, если дадите себя осмотреть, господин Мотоути.
Через полтора часа осмотр был закончен.
— Теперь, ребята, — сказал Нортон, наливая на ладонь спирт из флакончика и тщательно обтирая руки, — вы должны помочь нам еще в одном вопросе. Вы сами понимаете, что степень опасности вашего заболевания во многом, если не во всем, зависит от того, на каком расстоянии от места взрыва вы находились. Не правда ли, коллеги? — обратился он к врачам-японцам. Те неохотно кивнули.
— Так вот, я не знаю и не хочу знать, что вы говорили репортерам и будете говорить представителям официальной комиссии. Меня, как врача, как специалиста — понимаете? — интересует вопрос: где вы находились в момент взрыва? — Он сделал паузу и, не дождавшись ответа, продолжал: — Дело в том, что, если взрыв произошел ближе, чем мы думаем, нужно будет применить более эффективные и более дорогие средства.
Сэндо раскрыл было рот, но тут вмешался Одабэ.
— Я капитан этой шхуны, господин доктор, — слабым, прерывающимся голосом сказал он. — Подобного рода вопрос должен быть обращен ко мне.
— Слушаю вас, — придвинулся к нему Нортон.
— Я ничего не могу сообщить вам нового, господин доктор. То, что знают репортеры, и то, что выявит официальная комиссия, в точности совпадает с тем, что было на самом деле: в момент взрыва «Счастливый Дракон» находился в сорока милях от границы запретной зоны.
— Это неправда, — строго сказал Нортон.
— Это правда, — возразил Одабэ и снова закрыл глаза.
— У нас есть сведения, что вы находились в запретной зоне...
— Не были мы там! — крикнул сэндо.
— Нам нет дела до того, с какой целью вы туда заходили — ловить рыбу или...
— Простите, мистер Нортон, — мягко, но настойчиво сказал один из врачей-японцев, — мне кажется — извините, если я не прав, — что здесь не камера следователя. Мы должны лечить их...
— Разумеется, коллега, — спохватился Нортон. — Но поймите... Мне очень важно выяснить этот проклятый вопрос, и не моя вина, что он похож на вопрос следователя. Ну, ладно, — сказал он, помолчав, — будем считать, что они находились на расстоянии в сотню миль.
Он поднялся со стула.
— Мне кажется, мы можем идти, господа. До свидания, друзья мои, желаю вам скорейшего выздоровления. Скоро мы снова увидимся.
— Куда теперь? — спросил Нортон, выйдя из палаты.
— В палату 311.
— Этот... Кубосава?
— Совершенно верно. Наиболее пострадавший.
| Г |
Автомотриса, плавно покачиваясь, неслась мимо залитых солнцем лугов, крестьянских домиков с соломенными и черепичными крышами, небольших аккуратных рощ. Мелькали решетчатые столбы линии высокого напряжения, вдали синели силуэты горных вершин.
Губернатор передохнул и придвинул к себе пачку газет и журналов. Бегло просматривая заголовки, он усмехнулся. От такой каши могут свихнуться любые крепкие головы! «Американское правительство глубоко сожалеет об инциденте и готово в пределах разумного возместить убытки». «Новый фильм из средневековой жизни «Рыцари Круглого стола». «К предстоящей поездке премьера за границу». «Министр иностранных дел призывает японцев сотрудничать с США в деле дальнейших испытаний водородного оружия». «Долой водородное оружие! — требует группа ученых». «Американские солдаты ограбили шофера такси». «В конце года Япония получит от США два эсминца». «Тайфун уничтожил поселок». «Новый фильм «Ад и прилив», необычайные приключения на подводной лодке, показан взрыв атомной бомбы». «Здоровье Кубосава продолжает ухудшаться. Он лишился дара речи, на вопросы отвечает нечленораздельным мычанием». «Десять кобальтовых бомб (силы небесные, это еще что такое?) могут уничтожить цивилизацию (приложена карта мира, кружками показано, куда нужно сбросить бомбы, чтобы уничтожить цивилизацию)». «Выживет ли Кубосава?». «Радиоактивный дождь в Нагоя». «Японское варьете — артистки выступают голые».
С начала июля во всех газетах страны появились заголовки, в которых выделялись три больших иероглифа: «КУ-БО-САВА». «Состояние радиста «Счастливого Дракона» продолжает ухудшаться. Нарушение нормальной деятельности печени вызвало желтуху необыкновенной силы, — писали газеты. — Заболевание сопровождается полной потерей сознания. Приходится применять искусственное кормление». Изо дня в день печатались бюллетени о его здоровье и меры, принимаемые для лечения: «Температура 38, пульс 116, дыхание 19, кровяное давление 120/60, лейкоциты — 10 000. Больному вводят виноградный сахар»; «Температура 38,5, пульс 136, дыхание 32... Вводят белки и аминокислоты».
Губернатор утомленно закрыл глаза. Чтобы определить свою позицию, нужно прежде всего во всем этом как следует разобраться. Сегодняшний день он проведет в Коидзу, а завтра поедет в Токио. Довольно блуждать в потемках. Очень, очень беспокойное время!
Автомотриса застучала на стрелках. За окном потянулись длинные низкие здания складов, вдали блеснуло море.
— Коидзу, ваше превосходительство, — почтительно сказал секретарь.
На перроне губернатора встретил красный от волнения мэр во главе группы именитых горожан. Несколько полицейских удерживали на почтительном расстоянии толпу любопытных. Губернатор выслушал приветствие мэра, кивнул и проговорил, протягивая руку:
— Выражаю глубокое сочувствие, господин мэр, по поводу поистине ужасной участи, постигшей ваших земляков.
— Спасибо, ваше превосходительство.
— Надеюсь, семьям их была оказана помощь?
— Конечно, ваше превосходительство. Но... — мэр виновато развел руками, — средства муниципалитета настолько...
— Понимаю. Я постараюсь сделать что-либо.
— Спасибо, ваше превосходительство. Э-э... Осмелюсь обратить внимание вашего превосходительства еще вот на что, — понизив голос, сказал мэр. — Господин Нарикава, владелец «Счастливого Дракона»...
Из группы встречавших выступил тучный пожилой человек в синем шелковом кимоно и поклонился, держа руки ладонями вниз на коленях.
— ...огорчен тем обстоятельством, что злосчастная шхуна конфискована и он лишен возможности...
— Знаю. Сожалею, но, по-видимому, господину Нарикава придется удовлетвориться денежной компенсацией. Впрочем, мы постараемся, чтобы компенсация эта была достаточна для покупки новой шхуны. Кстати, где сейчас «Счастливый Дракон»?
— В порту, ваше превосходительство.
— Его осматривали?
— С разрешения вашего превосходительства, как раз сейчас на нем работают господа ученые из Киото.
— Угм...
— Осмелюсь просить ваше превосходительство почтить своим посещением мое недостойное жилище и отобедать...
— Нет. Это потом. Сначала в порт.
— Автомобиль к услугам вашего превосходительства.
— Вы не откажете в любезности сопровождать меня, господин мэр?
— Буду счастлив...
— Отлично. Эти господа, — губернатор указал на остальных встречавших, — могут быть свободны.
Старенький, расхлябанный «Фиат», дребезжа и стреляя фиолетовым дымом, катился по улицам Коидзу. Секретарь сидел рядом с шофером, брезгливо сторонясь его замасленной куртки, а губернатор и мэр откинулись на потертые кожаные подушки заднего сиденья.
Господам ученым из Киото было отведено старое конторское помещение в дальнем конце порта, огороженном колючей проволокой. Отсюда был виден «Счастливый Дракон», намертво пришвартованный к пирсу поодаль от других шхун.
Вокруг не было ни души, только вдоль проволочной изгороди расхаживал полицейский с карабином на ремне.
Губернатора встретил худощавый маленький человек в белом европейском костюме, остриженный наголо, гладко выбритый, пахнущий дегтярным мылом и дешевым одеколоном.
— Сакаэ Симидзу, — сухо отрекомендовался он. — Киотоский университет, лаборатория по исследованию радиоактивных изотопов. С кем имею честь?
Губернатор назвал себя. Симидзу поклонился и знаком пригласил его в дом.
— Простите за беспорядок. — Он торопливо задвинул в угол табуретку, быстро убрал со стола тарелки с остатками еды и чайник. — Мы живем здесь на лагерном положении. Собственно, работа наша уже закончена, и мы собираемся назад в Киото. Чем могу служить господину губернатору?
Губернатор сел в единственное кресло, достал платок и вытер вспотевшее лицо.
— Очень жарко, не правда ли, Симидзу-сан? В мои годы нелегко выдерживать такую духоту...
Симидзу покраснел, извинился и достал из шкафчика сифон.
— Спасибо. Итак, дело вот в чем. Мне хотелось бы узнать из... первоисточника, так сказать, что представляет собой пресловутый «пепел Бикини» и насколько верны слухи касательно его смертоносных свойств и возможного влияния на судьбы нашего государства.
Симидзу внимательно поглядел на губернатора, затем взглянул на мэра.
— Отрадно встретить такую любознательность... такой интерес к скромным делам людей науки со стороны государственного деятеля... — В голосе Симидзу не было насмешки, он говорил спокойно и даже, кажется, печально. — Поверите ли, господин губернатор, вы первый государственный человек, обратившийся с этим вопросом к человеку науки. Остальные, к сожалению, пока еще довольствуются бреднями газетных писак и других невежд. Простите мою откровенность. Да, я могу ответить вам на некоторые ваши вопросы. Соблаговолите пройти в следующую комнату.
Очевидно, здесь была лаборатория. Обшарпанные конторские столы покрывали листы плотного картона, прожженные и испачканные реактивами. На столах стояли какие-то приборы, похожие на полевые радиоприемники, штативы с пробирками, колбы и бутылки. Под матовой пятисотсвечовой лампой поблескивал лаком и никелем великолепный цейсовский микроскоп. Слева у входа висели белые халаты и маски со стеклянными глазами.
— Садитесь здесь, господин губернатор. — Симидзу показал на табурет у одного из столов и надел резиновые перчатки. — Господин губернатор простит мою бесцеремонность, если я попрошу его ни к чему здесь не прикасаться.
Секретарь и мэр, втиснувшиеся было в лабораторию вслед за губернатором, попятились и встали за порогом.
— Итак, что такое «пепел Бикини»?
— Я читал, что это измельченный в порошок коралл, — сказал губернатор.
— Правильно. Вот он... — Симидзу взял со стола пробирку с белым порошком, похожим на мелкий песок.
Губернатор протянул было руку, но Симидзу мягким движением отвел пробирку в сторону.
— Простите, господин губернатор. На вас нет перчаток. С вашего разрешения я лучше просто расскажу вам о нем, а затем покажу под микроскопом.
Губернатор кивнул.
— Как изволите видеть, «пепел Бикини» напоминает тонкий белый песок, почти пыль. Рыбаки «Счастливого Дракона» утверждали, что падал он с легким шуршанием. Размеры частиц колеблются от 10 до 450 микрон. В основном они состоят из углекислого кальция — СаСО3. Под микроскопом при боковом освещении они представляются белыми кусочками с неправильной поверхностью, обладающей в некоторых точках особенно сильной отражающей способностью. В общем, они похожи на крошки полупрозрачного стекла.
Губернатор нетерпеливо покашлял. Симидзу едва заметно улыбнулся и продолжал:
— На поверхности большинства частиц можно заметить по 2 — 3, иногда по 10 черных зерен величиной в 2 — 3 микрона. Микрохимический анализ показал, что это радиоактивные изотопы редкоземельных элементов...
— Редкоземельных...
— Да, да, редкоземельных элементов и некоторых распространенных металлов. Период полураспада для них довольно короток, и интенсивность распада весьма велика. Атомы, входящие в состав углекислого кальция, активны очень слабо, и приходится признать, что основным источником смертельного излучения являются именно эти черные вкрапления.

— Но откуда они взялись, эти редкоземельные... элементы?
— Это не что иное, как продукты деления, продукты ядерного распада, имевшего место при взрыве. Частицы непрореагировавшего урана, служившего как бы «запалом», «детонатором» для термоядерной реакции, частицы металла, из которого была построена оболочка бомбы, всевозможные вспомогательные устройства и прочее. В момент взрыва все это рассыпалось в пыль. А пылинки, зерна прилипали к частицам углекислого кальция, может быть, тонули в нем, пока он был в расплавленном состоянии, и теперь мы наблюдаем их...
— Значит, излучают именно они?
— Да. Именно они испускают альфа-, бета-, гамма-лучи, чрезвычайно вредно действующие на человеческий организм. Соблаговолите подойти к микроскопу.
Симидзу включил свет, повертел кремальеру и отодвинулся, давая губернатору место у стола. Губернатор, заложив руки за спину, склонился над окуляром. На темном фоне он увидел белые пятна с довольно мутными очертаниями. Приглядевшись, можно было различить на них черные точки.
— Это и есть излучающие зерна, — сказал Симидзу.
Губернатор поблагодарил, вытер лоб платком и отошел от микроскопа.
— Мы можем вернуться в ту комнату. — Симидзу бесцеремонно отстранил от двери секретаря.
— С радостью, — пробормотал губернатор. — Здесь очень жарко... Теперь я знаю, — сказал он, устроившись в кресле и отпив глоток воды, — что такое «пепел», физически. Не затруднит ли вас ответить, что он представляет собой политически?
Несколько секунд Симидзу с недоумением глядел на собеседника. Затем рассмеялся и провел рукой по стриженой голове.
— Кажется, я понимаю вас, господин губернатор. Ну... начать с того, что излучающие элементы «пепла» являются, как я уже имел удовольствие заметить, радиоизотопами с весьма коротким периодом. Мы и сотрудники других научных учреждений в течение полугода вели наблюдения за «пеплом», собранным на «Счастливом Драконе». Измерялась активность остатков «пепла» на баке, на средней палубе, в трюмах, в кубрике — одним словом, везде. И сейчас твердо установлено, что активность эта спадает с огромной быстротой. Соблаговолите взглянуть. — Он порылся в записной книжке и извлек оттуда листок бумаги. — Вот данные основных измерений. Возьмем измерения для левого борта. В конце марта активность составляла около пятидесяти миллирентгенов в час, в конце апреля — уже только шесть миллирентгенов, в середине мая — меньше трех, в июне — меньше одного. Видите? Правда, там «пепел» смывался дождем и уносился ветром. Но вот возьмем камбуз: для тех же дат мы имеем здесь соответственно 35, 8, 3, полтора миллирентгена в час. Вы понимаете, господин губернатор?
Губернатор покачал головой.
— Боюсь, что это слишком сложно для меня. Но я понял, что этот самый «пепел» быстро теряет активность, как вы ее называете.
— Совершенно правильно.
— И особенно серьезной опасности...
— Пожалуй, не существует. Если бы бедные рыбаки «Счастливого Дракона» знали, с чем они имеют дело... или, по крайней мере, имели обыкновение мыться с мылом не реже трех раз в сутки и не ели зараженную рыбу, для них дело ограничилось бы легким недомоганием или, в худшем случае, слабой формой лучевой болезни.
Губернатор встал.
— Благодарю вас, Симидзу-сан.
— Всегда рад быть полезным вашему превосходительству.
Садясь в «Фиат», губернатор обернулся.
Симидзу стоял на пороге и, щурясь от солнца, поглаживал ладонью круглую стриженую голову.
| П |
Сознание того, что их судьба волнует сотни и тысячи людей, придавало пациентам профессора Удзуки бодрость и уверенность, не позволяло впасть в отчаяние. «Вы не одни в вашей беде! Весь мир скорбит вместе с вами!» — читали они в письмах. Мотоути видел, как таяло и исчезало отчаяние в запавших глазах капитана Одабэ, как весело смеялся исхудавший, похожий на безбородого старичка Хомма. Даже сэндо Тотими, безразличный ко всему, кроме денег, и тот оживлялся и прекращал свои бесконечные арифметические упражнения, когда приходил служитель с почтой.
Месяц назад государственный секретарь Андо потребовал от США уплаты двух с половиной миллиардов иен в возмещение убытков за ущерб, причиненный Японии взрывом на Бикини. И с тех пор Тотими старается подсчитать, сколько достанется ему и что можно будет сделать на эти деньги. Вот он лежит на своей койке, опухший, небритый, шевелит губами и загибает забинтованные пальцы. Деньги для него — все. Мотоути и раньше не очень уважал своего начальника лова, а теперь, проведя с ним о одной комнате полгода, окончательно возненавидел его. Из них четырех Тотими был наименее пострадавшим (вероятно, благодаря своему амулету), но стонал и жаловался он так громко и так нудно, что доводил до бешенства даже спокойного, застенчивого капитана Одабэ. Даже Хомма, пятнадцатилетний мальчишка, и тот спрашивал себя: как это можно было слушаться и уважать такую скотину, как Тотими? А что касается самого Мотоути... Ах, если бы он мог подняться с постели!
Дверь тихонько скрипнула. Мотоути скосил глаза и увидел Умэко, старшую дочь Кубосава, подругу своей сестры. Вот уже месяц, как девочка жила в госпитале, ухаживая за отцом. Врачи считали, что ее присутствие благотворно действует на его здоровье.
Умэко хорошо знала Мотоути и часто навещала его. Бледная, осунувшаяся, отчего глаза ее стали очень большими и еще более темными, в белом больничном халатике, она казалась совсем взрослой.
— Ну что, Умэ-тян? — вполголоса спросил механик.
Умэко на цыпочках подошла и присела на край постели Мотоути.
— Папе опять плохо, — прошептала она. — Совсем плохо. Он опять потерял сознание. Я подслушала, врачи говорят, что надежды мало. Неужели он умрет?
Глаза ее налились слезами, она опустила голову, перебирая дрожащими пальцами завязки на халате.
Мотоути закусил губу и промолчал.
Хомма спросил тихо:
— А что говорит Удзуки-сан?
— Не знаю... — Голос девочки задрожал. — Его там не было. Но все равно, другие врачи тоже что-то понимают, не правда ли?
— Понимать-то они, конечно, понимают, но в этих делах лучше всего разбирается профессор Удзуки, — прохрипел сэндо. — Американцы тоже кое-что понимают, но от них ничего не узнаешь. Они трещат на своем языке так быстро, что разобрать ничего невозможно...
Он с ожесточением взбил подушку, перевернул ее другой стороной, чтобы было прохладнее, и снова лег.
— Ничего, Умэ-тян, — сказал Мотоути. Его костлявая рука легла на плечо девочки. — Ничего. Не надо так... отчаиваться. Ведь Кубосава-сан не впервые теряет сознание, правда?
— У него теперь желтуха. Они говорят, что такой желтухи никто... никто...
Она всхлипнула и прижала рукав к глазам.
— Ну... ничего. Простите, что я плачу. Вам ведь тоже очень плохо. Вот, смотрите, мне дал господин студент из хиросимского отделения...
Умэко вытянула из-за пазухи свернутый в трубку журнал.
На большой, во всю страницу, фотографии Мотоути увидел нечто, напоминающее исполинский одуванчик или круглый ком ваты, поднявшийся над облаками на корявой черной ножке. Подпись под фотографией гласила: «Огненный шар, образовавшийся после взрыва водородной бомбы. Диаметр шара — около восьми километров».
— Дрянь какая, — сказал Мотоути. — А что это за черный столб?
— Господин студент говорил, что это и есть туча пыли, которая поднялась от взрыва. «Пепел Бикини». Он говорил, что шар уходил все выше вверх и тянул тучу за собой. А потом... она рассыпалась...
— Дрянь какая, — проговорил Мотоути и вернул журнал.
— Ну, зачем это было нужно? — вырвалось у Умэко. Она закрыла лицо ладонями и выбежала из палаты.
Журнал остался на полу возле койки механика.
Некоторое время все молчали. Сэндо Тотими угрюмо таращил крохотные острые глазки. Хомма подозрительно засопел, уставившись куда-то в угол.
| -У |
— Да, да, в чем дело?
— Кубосава опять плохо. Слабеет сердце.
— Иду! — Удзуки неловко поднялся на ноги и взглянул на часы. Четверть второго. Значит, он проспал всего полчаса. Полчаса за последние двое суток. Но сон уже улетел от него. Он наскоро причесался и вышел в коридор. Ковровая дорожка заглушала шаги. У двери в палату он помедлил, машинально разглядывая табличку с номером 311. Палата номер 311. Уже несколько месяцев внимание всей Японии приковано к этой палате. Да и только ли Японии?..
В палате было очень светло и немного душно. Посредине, на койке, головой к южной стороне, лежал укрытый простыней Кубосава. Его желтое, с пепельным оттенком лицо отчетливо выделялось на фоне безукоризненно белого постельного белья. Глубоко в нос уходил резиновый шланг от кислородного датчика, стоявшего рядом на столике со стеклянной крышкой. С другой стороны у койки стояли две женщины и девочка: жена Кубосава — Ацуко, теща Киё и старшая дочь Умэко. Все трое смотрели на больного широко открытыми, застывшими глазами. Врач, видимо, только что проверявший пульс, засовывал в карман хронометр.
— Пульс пропадает, — шепотом ответил он на вопросительный взгляд Удзуки.
— Кислород?
— Непрерывно.
— Температура?
— Тридцать шесть. Думаю, скоро упадет еще ниже.
— Введите тонирующее.
Пока врач готовил шприц, Удзуки отошел к окну, откинул портьеру. На подоконнике лежала груда бумаг. Это были телеграммы с выражением соболезнования, с призывом не терять надежды, с наивными, но искренними советами. Удзуки взял одну из них. «Как это могло случиться? Что можно поделать, если не в силах человеческих помочь вам? Неподалеку от нас есть храм, в нем имеется каменная статуя Будды, именуемая «Гёгё-сам». Если потереться с молитвой больным или ушибленным местом об эту статую, то болезнь как рукой снимет. Я сам испытал это. Особенно, как говорят, таким способом хорошо изгонять злого духа из печени. Не теряйте надежды, держитесь твердо...»
— Готово, Удзуки-сан.
Удзуки бросил письмо и вернулся к больному. Прошло четверть часа. Тонирующее не помогло. Дыхание Кубосава становилось все слабее и слабее, пульс уже едва прощупывался.
Ацуко склонилась над мужем, и слезы закапали из глаз на его лицо, подушку, простыню. Она обтерла их платком, всхлипывая:
— Спасите его! Спасите его!
Удзуки приказал служителю срочно вызвать Нортона. Потом увеличил подачу кислорода. Впрочем, он понимал, что это бесполезно. В сущности, Кубосава был уже мертвецом, и Удзуки знал, точнее, чувствовал это по неуловимым внешним признакам. «Первая жертва водородной бомбы», — пришло ему в голову. Взгляд его случайно встретился со взглядом Умэко. Он поспешно отвел глаза и с ненужной энергией принялся готовить вторую инъекцию. В отяжелевшей от бессонницы голове копошились обрывки мыслей: «Пока пациент жив, врач не должен... Бедная девочка... Нортон намекал, что кое-кто в США очень рассчитывает на мое искусство. От спасения Кубосава зависит многое... очень многое. Когда начался последний приступ у Кубосава? Кажется, двадцать первого. А сегодня двадцать третье... Утро двадцать четвертого. Да, двадцать четвертое сентября 1954 года, дата смерти первой в мировой истории жертвы водородной бомбы. Неужели будут и другие?»
— Здравствуйте, Удзуки-сан!
Удзуки вздрогнул и чуть не выронил шприц. Перед ним стоял Нортон.
— Плохо? — спросил он, показывая глазами в сторону постели.
Удзуки кивнул.
— Думаю, это конец, — по-английски сказал он.
Нортон долго возился около умирающего, мял ему руки, щупал через каждые пять минут пульс, открывал веки и заглядывал в мутные неподвижные зрачки. Он что-то записывал, делал какие-то уколы, брал кровь. Удзуки безучастно следил за ним. Для него было ясно, что дело проиграно.
Рассветало. Удзуки не опустил портьеры, и к желто-белому электрическому свету примешалась серая слезливая муть осеннего токийского неба. Палата была невелика, и в ней стало душно. Удзуки захотелось курить. Выходя из палаты, он слышал, как Ацуко, плача навзрыд, спрашивала Нортона:
— Неужели его уже ничем нельзя спасти?
Он закрыл за собой дверь, откинул полу халата и достал портсигар. Глаза его остановились на табличке с надписью «311». Он отвернулся.
Сюкити Кубосава умирал. Он был так слаб, что даже не мог поднять веки и пошевелить губами, а перешептывание врачей и плач родных доносились до него, словно через слой войлока. И все же судьба подарила ему перед смертью несколько часов ясной мысли. Он знал, что умирает. Он понимал это каким-то шестым чувством, словно слепой, свесившийся над бездонной пропастью. Смертный холод медленно полз по телу от тощих рук и ног, похожих на палки, обтянутые желтой влажной кожей.

— Ацу... Умэ... — позвал он одним дыханием.
Он почувствовал, как жена склонилась над ним и теплая капля упала ему на лоб. Ему захотелось сказать ей, что горевать не надо, что он совсем не боится смерти и что, если он умрет, то ей помогут, ей, и детям, и старой Киё, но не было сил пошевелить деревеневшими губами. Легкий, едва ощутимый укол в плечо — они опять вводят ему в кровь этот, как его... Название лекарства ушло из памяти. Да это и неважно. Наивные люди эти доктора, они думают, что еще не все потеряно. Неужели он один понимает, что это смерть? Чего же тогда стоят все они, лучшие врачи Японии и Америки? Но при чем здесь Америка?.. Почему американские врачи так любезно предложили свои услуги? Ведь никогда раньше они не лечили японских рыбаков. Ах, да, он для них всего лишь «морумотто» — подопытная морская свинка. На его организме они познают, что бывает с человеком, когда он попадает под «пепел смерти». Полгода они внимательно наблюдали, как отчаянно борется его организм с невиданной болезнью, борется и сдает одну позицию за другой. Сначала сдалась кровь, затем печень, мозг... Сколько времени он был без сознания? Кажется, сейчас конец сентября? Значит, месяц.
Он услышал прерывистый шепот и плач жены, она просила кого-то сделать что-нибудь для его спасения, не дать ему умереть. Значит, она тоже знает, поняла. Бедная маленькая Ацу! Каково ей будет с двумя девочками и старухой-матерью? Нет, как он ни храбрится, а умирать все-таки страшно. Страшно и бессмысленно. Кто эти люди, вызвавшие такие чудовищные силы? Зачем это им было надо? Против кого они хотят их использовать? И почему именно он, Сюкити Кубосава, сорокалетний честный рыбак, должен был оказаться их первой жертвой? И почему вообще кто-нибудь должен стать их жертвой? Он вспомнил ослепительные вспышки перед рассветом, громовые раскаты, а затем белый порошок, падающий с неба, — белый пепел, «пепел смерти», «пепел Бикини». Если бы они знали об этом тогда...
Теплые, нежные пальцы сжали его ладонь, но он не мог ответить на пожатие. Ледяной холод полз к груди, окружал сердце, останавливал дыхание...
В этот день Япония узнала, что Сюкити Кубосава, радист рыболовной шхуны «Счастливый Дракон», умер.
Полковник Нортон в клочья изорвал телеграмму из Вашингтона и грубо накричал на сотрудников.
Мотоути, кусая губы, чтобы не заплакать, судорожно мял и разглаживал газету. Сэндо Тотими тихонько молился. Одабэ лежал, завернувшись с головой в одеяло. Хомма громко всхлипывал, размазывая по лицу слезы.
Директор госпиталя Токийского университета заперся в своем кабинете и до вечера просидел один, уронив на руки лысую голову. Когда стемнело, он, не зажигая света, достал из шкафчика бутылку саке и чашечку.
В помещении профсоюза рыбаков Коидзу заплаканные женщины делали траурный венок. Угрюмые рыбаки молча курили перед входом.
Пустовали кафе, кинотеатры, варьете. По опустевшим улицам разъезжали на американских «виллисах» усиленные наряды полиции. Но народ молчал. И было в этом молчании нечто столь зловещее, что власти искренне предпочли бы ему шумные многотысячные демонстрации.
| Г |
Улицы Коидзу были пусты, если не считать нескольких голоногих ребятишек, приветствовавших машину губернатора отчаянным визгом. Над входом в здание муниципалитета красовалось большое желтое полотнище с четырьмя иероглифами: «Суй баку хан тай» — «Долой водородную бомбу».
Через несколько минут «шевроле», разбрызгивая грязь, выскочил на окраину городка и остановился. Дорогу к кладбищу запрудила огромная толпа людей. Их были тысячи, мужчин, женщин, стариков, детей, рыбаков, судовладельцев, лавочников, рабочих; они стояли, тесно прижавшись друг к другу, под теплым моросящим дождем, прикрываясь зонтами и громадными камышовыми шляпами, похожими на плоские блюда. Немного поодаль расположились корреспонденты японских и иностранных газет в регланах и макинтошах с поднятыми воротниками. Они непрерывно курили, сплевывали и переговаривались вполголоса. Губернатор распахнул дверцу и выбрался из машины.
— ...Он был такой же, как и мы все, — услыхал он голос, который слушала вся эта громадная толпа. — И каждый из нас, каждый простой рыбак, мог оказаться на его месте.
Судя по голосу, выступавший был молод. Он не был виден губернатору. Тогда губернатор пошел в обход сплошной людской стены.
— Рыбакам живется не сладко. Ремесло рыбака трудное. Рыбаки выбиваются из сил, не видят дома месяцами, чтобы накормить свои семьи. И вот теперь эта водородная бомба. Сегодня мы хороним Кубосава-сан. А между тем премьер Иосида сговаривается с американцами о том, как превратить Японию в атомную базу.
По толпе прокатился сдержанный гул. Теперь губернатор хорошо видел оратора. Это был молодой человек в грязной рабочей спецовке, с потрепанной каскеткой в руке. Струйки дождя, как слезы, стекали по его лицу.
— Так скольких нам еще придется похоронить, если мы не скажем решительно все вместе: «Долой водородную бомбу!»?
Толпа снова загудела. Кто-то крикнул:
— Запретить американцам хозяйничать в Японии и на океане! Пусть взрывают свои бомбы в Америке!
Оратор поднял руку, и все стихло.
— Если мы, вся Япония, все простые и честные люди нашей многострадальной родины, не скажем этого, не схватим убийц-атомщиков за руку, мы погибнем. Помните это, жители Коидзу! Конечно, многие из вас до сих пор думают: мое, мол, дело — сторона, я рыбак, политикой не занимаюсь... Но если бы мы догадались заняться этой политикой раньше, кто знает, может быть, был бы сейчас жив Кубосава... Склады судовладельцев ломились бы от рыбы, покой и тишина были бы сейчас в Коидзу и во всей Японии... И вот мы стоим у ворот кладбища и скорбим над прахом первой жертвы водородной бомбы. Как будто мало было жертв и без этого! Долой убийц! Долой предателей! Да здравствует свободная и демократическая Япония!
Под крики и рукоплескания оратор сошел с импровизированной трибуны. Губернатор наклонился к уху стоявшего впереди мужчины в соломенной накидке и спросил тихо:
— Кто это?
Тот, не оборачиваясь, бросил:
— Сын старого Комати. Из Токио. Специально приехал хоронить земляка.
На возвышении появилась маленькая женщина в мокрой белой одежде. Она провела рукой по глазам, глубоко вздохнула и заговорила тоненьким голосом:
— Дорогие земляки и друзья! Вы все знаете, мой муж был честный рыбак и хороший человек. Он никому не причинял зла. И вот его убили. Убили те самые люди, которые сбросили на нашу страну атомные бомбы. Тогда они сожгли и искалечили много людей. Теперь они придумали еще одну бомбу, и жертвой ее опять оказалась Япония. «Пепел Бикини» отнял у меня мужа и изувечил его товарищей. И я вас спрашиваю: зачем все эти мучения, зачем эти жертвы, когда мы, наши семьи могли бы жить спокойно и счастливо...
В мертвой тишине, наступившей после того, как Ацуко Кубосава, трясясь от рыданий, сошла с помоста, послышалась какая-то возня и на помосте появилось новое лицо.
— Американец? — пробормотал кто-то растерянно. — Вот наглец!
Раздались насмешливые и возмущенные крики. Но американец не смутился. Вертя в руках лист бумаги, он терпеливо ожидал. Понемногу шум утих.
— Господа! — начал американец. — Я советник американского посольства Грэхэм Корн. Прежде всего разрешите мне выразить от своего имени, от имени моего правительства и от имени моего народа глубокое и искреннее соболезнование по случаю безвременной кончины Кубосава-сан.

Он говорил по-японски чисто, почти без акцента, и это немного примирило его со слушателями.
— Весь мир, все люди доброй воли скорбят вместе с вами, объятые жалостью к осиротевшей семье покойного. Нет слов, какими можно было бы смягчить эту тяжелую утрату. Американское правительство сделало все возможное для того, чтобы спасти Кубосава-сан. Лучшие доктора...
Американцу не следовало говорить об этом.
— Знаем мы американских докторов! — закричали в толпе.
— Почем на черном рынке ампула пенициллина!
— Долой водородные бомбы!
— Долой испытания!
— Не хотим больше слушать! Убирайся вон!
Советник посольства давно уже исчез с помоста, а народ все никак не мог успокоиться.
На помост, тяжело дыша, вскарабкался новый оратор. Он был в дешевом европейском костюме и мягкой шляпе.
— Друзья! — крикнул он. — Я только что из Токио! Американцы не приняли нашу делегацию! Они ссылаются на то, что сегодня воскресенье! Они не желают нас слушать!
Тысячи сжатых кулаков поднялись над морем голов.
— А вот вам позавчерашняя газета с сообщением о смерти Кубосава-сан... — Человек в европейском костюме развернул мокрый газетный лист. — Вот на этой стороне фотография траурной процессии у Государственного госпиталя... Видите? — Он перевернул страницу. — А вот другое фото: премьер Иосида принимает американских газетчиков и улыбается им... Позор!
Он стоял, выпрямившись, размахивая обеими руками, словно дирижируя, а многотысячная толпа, скандируя, кричала хором, хлопая в такт в ладоши;
— До-лой бом-бу! До-лой Иоси-да!
— До-лой бом-бу! До-лой!
Губернатор резко повернулся и направился к своему «шевроле».
| Т |
— Еще несколько минут, адмирал! — крикнул штурман.
Брэйв кивнул и принялся рассматривать карту, разостланную у него на коленях. В кабину заглянул радист, наклонился к штурману. Тот довольно улыбнулся.
— Обменялись позывными со штабом зоны. Все идет очень хорошо, — сказал штурман. — Теперь можно быть спокойным.
Впереди, на бархатном фоне океана, появилось несколько крошечных серых пятен. Брэйв схватился за бинокль.
— Это атолл Уджеланг! — кричал штурман. — Там, дальше, видите? Маленькая точка. Это Эниветок. Сейчас развернемся и пойдем на Бикини. Тем, кому часто приходится летать в этих местах, всегда хочется подняться повыше. Страшные места! Говорят, во время взрыва первого марта за сто миль отсюда машины тряхнуло так, что они чуть-чуть не рассыпались.
Брэйв вспомнил багровый шар, и ему стало не по себе. Снова, как и тогда, рубашка прилипла к его жирной спине.
— А вот и сам Бикини. — Штурман протянул указательный палец. — Вон там, где цепочка островков — видите? — большой промежуток между предпоследними двумя. Там и был остров, на котором взорвали эту штуку.
Перед самым Вашингтоном адмирал заснул: сказалось нервное напряжение последних суток. Заснул неожиданно для себя и так крепко, что не слышал, как произвели посадку. Адъютант разбудил его, вежливо трогая за плечо.
— Уже прилетели, адмирал. Машина ждет.
— Уже? — Брэйв посмотрел на него бессмысленными глазами, затем пришел в себя. — Ах, да... Ну, пойдемте. Кто-нибудь встречает?
— Да. Майор Пейнтер из Пентагона.
Брэйв прикусил нижнюю губу. Пейнтер был незаметной личностью, и о нем вспоминали только тогда, когда нужно было встречать маловажных людей или работников, отозванных за какие-либо провинности. В штабе шутили, что, посылая Пейнтера для встречи, начальство тем самым неофициально предлагает встречаемому уйти в отставку. Что ж, этого следовало ожидать!
— Где Нортон?
— Он уже вышел.
— Хорошо, Погги. Распорядитесь, чтобы багаж послали в гостиницу.
Он за руку попрощался со всеми членами экипажа, приложил руку к козырьку и двинулся к выходу.
Всю дорогу до штаба Брэйв и Нортон молчали. Пейнтер сидел рядом с шофером, и адмирал с ненавистью рассматривал его узкую равнодушную спину. Нортон непрерывно курил, выбрасывал окурки на дорогу и сгибался, чтобы зажечь новую сигарету.
В приемной дежурный адъютант попросил их подождать минуту и скрылся за портьерой, отделявшей дверь в кабинет шефа. Пейнтер откланялся и ушел. Каждый дюйм его спины по-прежнему выражал полное равнодушие к Брэйву и Нортону. Видимо, многих он вводил в эту приемную, чтобы оставить с глазу на глаз с их мрачной судьбой.
— Вас просят, господин адмирал, — прошелестел дежурный, снова появляясь из-за портьеры. — Господин полковник, вам придется пока побыть здесь.
Брэйв решительно одернул мундир, гулко прокашлялся и шагнул в кабинет.
Шеф, красивый, совершенно седой мужчина в простом штатском костюме, сидел за огромным столом черного дерева. После приемной комната казалась погруженной в полумрак, свет скупо пробивался через неплотно задернутые шторы. Холодные блестящие глаза шефа уперлись в лицо адмирала, и четкое воинское приветствие перешло в неразборчивое бормотание.
— Здравствуйте, Брэйв, — негромко отозвался шеф. Тон его был почти ласковым. — Вы опоздали, я ждал вас еще вчера.
Адмирал достал платок и вытер шею и лысину... «Так вот как это делается!»
— Я вызвал вас на два слава. Всего на два слова. Вы умный человек и понимаете меня. Ваша репутация сильно пострадала, Брэйв, вам это известно. Кстати, почему вы не сдали официально дела в Японии?
— Я думал... — пробормотал адмирал. — Мне казалось...
Шеф с сожалением покачал головой.
— Значит, я ошибся, считая, что вы все понимаете, так?
— Нет, я понимаю, простите...
— Вот и отлично. Отправляйтесь в гостиницу. Вам дадут знать, когда вопрос о вашем положении будет решен. Да захватите с собой вашего этого... как его... Нортона. Я не желаю говорить с ним...
Ничего не видя перед собой, с трудом передвигая ноги. Брэйв побрел из кабинета. Дежурный подал ему воды, усадил в кресло. Тогда он открыл глаза и увидел над собой встревоженное лицо Нортона. — Все... кончено, — прошептал адмирал. — Все кончено, Нортон. Мы больше никому не нужны.
Горничная долго звонила по телефону, затем подошла к номеру и принялась стучать. Наконец щелкнул ключ, дверь распахнулась, на пороге, хмурый и злой, появился Нортон. Он был в халате.
— Что вам нужно? — резко спросил он.
— Вам письмо. Приказано передать срочно. — Горничная протянула Нортону конверт, повернулась и пошла прочь.
Нортон разорвал конверт. «Звонил вам, но не мог дозвониться. Немедленно зайдите ко мне. Брэйв».
Номер Брэйва помещался пятью этажами выше, но Нортон не воспользовался лифтом. Медленно, ступенька за ступенькой, поднимался он по широкой лестнице гостиницы, задевая подошвами за складки ворсистого ковра. Судя по всему, адмирал сейчас предложит написать объяснительную записку и рапорт об отставке. Торопиться некуда. Нортон тоскливо зевнул. Глупо все кончилось, очень глупо. А ведь можно было бы... Вот и номер 810. Он постучал, перешагнул через порог и остановился в изумлении. Брэйв встретил его, стоя посреди гостиной, толстый, напыщенный и блестящий, как всегда, будто и не было вчерашнего обморока в приемной у шефа.
— Здравствуйте, полковник, — сказал он. — Садитесь. Что это с вами? Больны?
— Нет, — силясь улыбнуться, отозвался Нортон. — Все в порядке. Рад видеть вас в добром здравии. Вы звали меня?
— Да. — Брэйв сунул руки в карманы и подошел к Нортону вплотную. — Радуйтесь, полковник. Радуйтесь, черт вас побери! Вы остаетесь в моем распоряжении. Мы получаем месячный отпуск, а затем летим в Неваду. Понятно? Там намечаются новые эксперименты по нашей с вами линии. Ха! Не так-то просто выкинуть из игры людей нашего калибра!.. Что с вами, полковник?
Нортон глубоко вздохнул и сел, почти упал в кресло.
— Это слишком неожиданно! — тихо сказал он.
| В |
Чарли слегка пополнел, глаза его утратили прежнее беспокойное выражение и стали уверенными и даже надменными. Товарищи по работе теперь относятся к нему совсем по-другому — немногие со скрытой насмешкой, большинство же с уважением и почтительностью: ведь он стал правой рукой производителя работ фирмы «Холмс и Харвер», а это — уже положение. Насмешек Чарли не замечал, знаки почтения принимал снисходительно, с презрительной улыбкой. Серая масса сезонных рабочих, копошившихся у него под ногами, мало интересовала его. Теперь у него была другая цель: стать производителем работ, навсегда уйти из мира физического труда, руководить и получать все больше долларов, долларов, долларов... Впрочем, Чарли не торопился. Он мог позволить себе приглядываться, выжидать. Положение его было прочным. Кроме того, он подумывал и о карьере профсоюзного лидера. Вот только...
Чарли сидел в своем любимом (собственном!) кресле у электрокамина, курил и раздраженно поглядывал на сутулую спину Дика, стоявшего перед окном. Джейн вязала, полулежа на кушетке. Все молчали. Вечерняя темнота за окном была пропитана осенней сыростью. Вокруг лампы уютно плыли сизые струйки табачного дыма.
— Где ты встретил его? — спросил Чарли.
— В конторе, — не оборачиваясь, ответил Дик. — Он пробовал наняться.
— Удалось?
— Ты же знаешь: вчера у нас уволили еще десять человек.
— Да, правда.
Они снова помолчали.
— Интересно, куда он девал свои деньги? — глубокомысленно произнес Чарли.
— Глупый вопрос!.. — Голос Дика звучал сердито.
— А все-таки?
— Ну, мало ли что... Роздал долги... Или болел и потравил на лечение. Вложил в какое-нибудь дело и прогорел. Будто не знаешь, как это бывает...
— У умного человека так не бывает.
— У умного? Пожа-а-луй.
Чарли подозрительно взглянул на Дика, но вид костлявой широкой спины не сказал ему ничего. Джейн еще быстрее заработала спицами, еще ниже склонила над вязаньем золотоволосую голову. На всякий случай Чарли пробормотал:
— Разумеется, кому как повезет... Ну, что он тебе рассказывал?
— Мы не успели поговорить. Меня вызвали на площадку, и мы условились встретиться сегодня вечером.
— Где?
— В «Пи-Эн»...
Чарли облегченно рассмеялся.
— Конечно, это — самое удобное место для встречи... — Глаза его встретились с глазами жены. Джейн несколько мгновений глядела на него с незнакомым, отчужденным выражением, затем снова опустила голову. Чарли кашлянул: — Само собой, лучше было бы пригласить его сюда, но... знаешь, Дик, какие у меня соседи? Нам житья не будет, если они узнают, что мы якшаемся с неграми.
— Я так и понял, — равнодушно сказал Дик.
— ...Вот-вот. И у меня много завистников на работе. Мне не хотелось бы давать им в руки лишний козырь. Да еще осложнять отношения с местными...
— Я так и понял, — повторил Дик.
Но Чарли уже не мог остановиться.
— Конечно, ты осудишь меня. Все-таки вместе работали и все такое. Я понимаю. Мне, право, ужасно жаль... Но я...
Дик наконец повернулся к нему лицом.
— Ладно, — сказал он и широко зевнул. — Ладно. Я знал это заранее и не пригласил его к тебе. Можешь быть спокоен. И не думай, пожалуйста, что он приехал в Чикаго ради твоих прекрасных глаз.
— А если бы даже и так... — храбро начал Чарли.
— Это не так, и нечего говорить об этом. Я пошел.
Он поцеловал Джейн в лоб, кивнул Чарли и вышел, плотно притворив за собой дверь. Шаги его простучали по асфальту под окном и затихли.
— Дик обиделся на меня, — беспомощно проговорил Чарли. — Но ведь не мог же я, действительно, пустить в дом ниггера!
Джейн не ответила.
Многим в Чикаго известен ночной кабачок «Пенья-Невада». Завсегдатаи называют его просто «Пи-Эн». Здесь не делают разницы между богатыми и бедными, между цветными и белыми, между юнцами и стариками. Здесь царит один бог: доллары. Всякий, кто может расплатиться, пользуется здесь гостеприимством и уважением.
В середине октября 1954 года над вывеской кабачка появилось рекламное объявление, извещавшее, что здесь, и только здесь, можно получить новый коктейль — «Бикини» (рецепт запатентован), изумительный по вкусовым качествам. Коктейль имел успех: слово «Бикини» было модным.
Дик и Майк заняли столик у самого входа. Громадный Майк, в хорошем, но изрядно потрепанном костюме, был грустный и озабоченный. Дик слушал его, приставив ладонь к уху и морщась, когда шум в кабачке становился особенно сильным.

— ...Они всем кругом задолжали, вот как. Так что большая часть денег пошла за долги. А что осталось, пришлось истратить на лечение. Но все это было ни к чему, парень, нет. Мальчуган умер. И Марта чуть не сошла с ума. Плакала дни и ночи напролет, правду говорю. Потом сказала: «Не будет нам с тобой счастья, Майк». Правда, так и сказала. И уехала к своим родным. А я — видишь...
Майк замолчал, взял свой стакан и отпил немного.
— Хорошее виски... Вот. Остался один. Делать на старом месте мне было уже нечего. Распродал я наши последние вещички, отослал ей деньги... И пустился по свету. Мотался по всей стране, но сам знаешь, как сейчас с работой.
Майк снова поднял стакан. Дик последовал его примеру.
— А потом — ничего интересного. Стал пить, ей-богу, стал. Приняли меня на один завод в Ричмонде. Несколько дней проработал — бац, снижают расценки. Началась забастовка. Напился, наскандалил, ударил мастера... Не веришь? Правда. Тут уж мне досталось как следует. Посадили на два месяца, из них месяц пролежал в тюремной больнице. Вот, неделю назад вышел, денег нет, работы нет... Вдруг в газете объявление: работа с выездом из Штатов. Совсем как тогда... Я и махнул в Чикаго, парень. Знакомых никого. Хотел зайти к Чарли, да... Хорошо хоть, что тебя встретил, а?
— Да, это хорошо, что мы встретились, — медленно сказал Дик.
Он подозвал официанта и заказал еще два виски.
— Может, попробуете «Бикини», ребята? — спросил тот.
— Нет, давай виски, дружище. Не люблю этих смесей.
— Название-то какое! — Майк усмехнулся, провел по лицу дрожащей ладонью. — Ты-то догадался, Дик, верно?
— Догадался.
— И кто бы мог подумать, а?
— Да. Между прочим, я здесь недавно одного нашего встретил. Кэйзи, — может быть, ты помнишь? Дылда такой, выше меня ростом. Из второго барака. Так он до сих пор думает, что мы там маяк для океанского транспорта строили.
— Да... Бикини. Там один уже умер, слыхал, парень?
— Слыхал. Кубо... сава — так его зовут, кажется.
Официант принес виски, убрал грязные тарелки и исчез.
— И все-таки ты опять туда?
Майк не ответил. Дик вздохнул.
— Ну, выпьем за... За что, старина?
— Я пью за тебя, Дик. — Глаза Майка наполнились слезами. — Ты хороший, добрый парень, верно, Дик, очень хороший. А Чарли...
— Плюнь на Чарли. Пьем.
— Пусть бог тебе поможет, Дик.
Поставив на стол пустой стакан, Майк закурил и поднялся.
— Спасибо, парень, большое спасибо. Теперь мне пора.
— Ты твердо решил?
— Да. Проводишь меня?
Дик вздохнул и бросил на стол деньги.
— Что ж, пойдем.
У дверей конторы по найму перед объявлением о наборе рабочей силы люди теснились с ночи. Дул свежий предрассветный ветерок, небо на востоке светлело, звонкую утреннюю тишину прорезало робкое чириканье проснувшихся воробьев.
— Видишь, уже стоят, — шепотом сказал Майк, остановившись.
— Да, стоят...
— Я пойду...
В сумерках лицо Дика было похоже на белую маску.
— Иди, Майк, — спокойно проговорил он.
— Может быть, — в голосе Майка послышалась робкая надежда, — ты тоже... со мной?..
— Не говори глупости.
Майк опустил голову.
— Я хочу еще раз попробовать. А ты куда?
Дик пожал плечами.
— Я пойду искать.
— Что?
— Искать, Майк. Должен быть какой-то другой путь. Прощай.
Майк провожал глазами долговязую фигуру товарища, пока тот не скрылся за углом. Тогда, тяжело вздохнув, он повернулся и направился к очереди.
— Накамура-сан идет! Накамура-сан идет!
Ясуко бросила куклу и отвела с лица упавшую прядь.
— Где Накамура-сан?
— Вон, зашел сейчас к Хада...
— Побежим навстречу?
— Побежим!
Ребятишки наперегонки кинулись к соседнему дому. Через минуту оттуда вышел старый почтальон с большой, битком набитой сумкой через плечо.
— Здравствуйте, Накамура-сан!
— Здравствуй, Ясу-тян, здравствуй, Таро.
— Как ваше здоровье?
— Спасибо, дети, хорошо. Что у вас новенького?
— Умэ-тян вернулась из столицы.
— Вот как? Это хорошо...
— Накамура-сан, нам есть?
— Еще бы!
Почтальон шел к домику Кубосава. Ясуко семенила рядом, вцепившись в его куртку с правой стороны, Таро шагал слева, жадно заглядывая в сумку.
— Интересно, — сказал он, — откуда сегодня письма госпоже Кубосава? Вы не скажете, Накамура-сан?
— Не знаю, не смотрел.
— Посмотрите, пожалуйста, мне очень хочется знать, какие на них марки.
Ясуко забежала вперед и погрозила ему пальцем.
— Ты всегда так, Таро. И обдираешь марки, прежде чем письма попадают маме.
— Но ведь ей не нужны марки, правда? А я их собираю.
— Все равно, — серьезно сказал почтальон, — нужно сначала отдать письмо адресату... госпоже Кубосава, а потом ты у нее спросишь.
— Она мне всегда позволяет брать марки, верно, Ясу-тян?
— Конечно. Только сначала нужно письма отдавать ей.
Они остановились у входа. Ясуко раскрыла дверь.
— Пожалуйста, заходите, Накамура-сан.
Маленькая Ацу в скромном синем кимоно, как всегда, пригласила почтальона посидеть и выпить чашку чая. Накамура-сан опустился на циновку, но сейчас же поднялся, чтобы поздороваться с высокой красивой девушкой в европейском платье, появившейся из соседней комнаты.
— Никак это Умэ-тян?.. — пробормотал он.
— Я, Накамура-сан. Это я. Что, очень изменилась?
— Да-а... Выросла, похудела. Стала барышней. Ясуко и Таро нетерпеливо заглядывали через плечо Ацуко, перебиравшей конверты.
— Из Австрии, Индонезии. Из России, еще из России... Из Америки, из Австралии...
— Ах, тетя Ацу! — Таро чуть не выпрыгнул из своих тэта. — Подарите мне эту марку... вот-вот, такой у меня еще нет. Пожалуйста, тетя Ацу, нэ-э-э...
— На, возьми. — Ацу осторожно вырезала угол конверта с маркой. — Очень красивая, верно? А теперь идите играть во двор. Я буду читать.
Но дети подсели к почтальону, разговаривавшему с Умэко.
— Значит, Умэ-тян вступила в «Поющие голоса»?
— Да. Мне сказали, что старшей дочери Кубосава это просто необходимо. К тому же я немножко умею петь и плясать. Меня научила бабушка. Всем очень понравилось, как я танцую «Сакура».
— Вот как...
— Да. «Поющие голоса» — это голоса всех свободных сердец нашей родины. Мы разъезжаем по всей Японии и песнями, декламацией, танцами убеждаем народ выступать против испытаний атомных и водородных бомб, против превращения Японии в атомный полигон. А потом, возможно, отправимся и за границу... В Китай, Россию, в США.
Почтальон с изумлением и уважением смотрел на нее. Впервые в жизни он слышал такие слова от шестнадцатилетней девочки, дочери рыбака.
— «Поющие голоса» объединят всех, кто любит свой народ и хочет видеть его счастливым и независимым.
— Смотрите, Накамура-сан, какой красивый значок у старшей сестры! — сказала Ясуко, осторожно дотрагиваясь указательным пальцем до груди Умэко,
На платье девушки был приколот маленький металлический значок в виде красного листка с золотыми прожилками. Накамура сощурился, стараясь получше разглядеть его.
— Очень красивый, — сказал он. Умэко отколола его и перевернула.
— Видите? Здесь написано: «6 августа 1945 года», дата взрыва атомной бомбы над Хиросимой. Листок означает жизнь, а красен он от крови, пролитой сотнями тысяч жертв. Все выступающие с лозунгом «Долой атомную и водородную бомбу!» носят или скоро будут носить такой значок. Мы выступаем за то, чтобы больше не повторились Хиросима, Нагасаки, Бикини.
Умэко коротко вздохнула и подняла глаза на портрет отца в черной рамке. Таро и Ясуко переглянулись.
— Правильно, — сказал Таро, стараясь говорить низким, взрослым голосом. — Чтобы больше не повторились Хиросима, Нагасаки, Бикини. Значит, мы тоже будем носить такие значки. Правда, Ясу-тян?
— Обязательно!