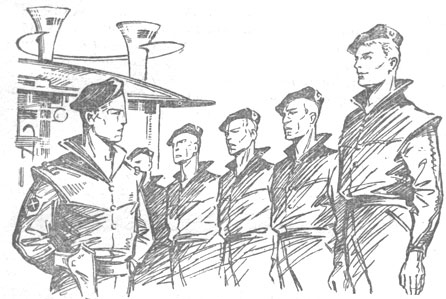
Часть вторая
ЛЕГИОНЕР
ГЛАВА ПЯТАЯ
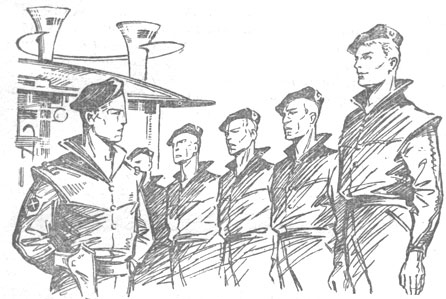
Окончив инструктаж, господин ротмистр Чачу распорядился:
— Капрал Гаал, останьтесь. Остальные свободны.
Когда остальные командиры секций вышли гуськом в затылок друг другу, господин ротмистр некоторое время разглядывал Гая, покачиваясь на стуле и насвистывая старинную солдатскую песню «Уймись, мамаша». Господин ротмистр Чачу был совсем не похож на господина ротмистра Тоота. Он был приземист, темнолиц, с большой лысиной, он был гораздо старше Тоота, в недавнем прошлом - участник восьми приморских инцидентов, обладатель Огненного Креста и трех значков «За ярость в огне»; рассказывали о его фантастическом поединке с белой субмариной, когда его машина получила прямое попадание и загорелась, а он продолжал стрелять, пока не потерял сознание от страшных ожогов; говорили, что на теле его нет живого места, сплошь чужая, пересаженная кожа, а на левой руке у него не хватало трех пальцев. Он был прям и груб, как настоящий вояка, и, не в пример сдержанному ротмистру Тооту, никогда не считал нужным скрывать свое настроение ни от подчиненных, ни от начальства. Если он был весел, вся бригада знала, что господин ротмистр Чачу нынче весел; но если уж он был не в духе и насвистывал «Уймись, мамаша»...
Глядя ему в глаза уставным взглядом, Гай испытывал отчаяние при мысли, что ему каким-то неизвестным пока образом привелось огорчить и рассердить этого замечательного человека. Он торопливо перебирал в памяти свои собственные проступки и проступки легионеров своей секции, но ничего не мог вспомнить такого, что уже не было отстранено небрежным движением беспалой руки и хриплым, ворчливым: «Ладно, на то и Легион. Плевать...»
Господин ротмистр перестал свистеть и покачиваться.
— Не люблю болтовни и писанины, капрал, — произнес он. — Либо ты рекомендуешь кандидата Сима, либо ты его не рекомендуешь. Что именно?
— Так точно, рекомендую, господин ротмистр, — поспешно сказал Гай. — Но...
— Без «но», капрал! Рекомендуешь или не рекомендуешь?
— Так точно, рекомендую.
— Тогда как я должен понимать эти две бумажки? — Господин ротмистр нетерпеливым движением извлек из нагрудного кармана сложенные бумаги и развернул их на столе, придерживая искалеченной рукой. — Читаю: «Рекомендую вышеозначенного Мака Сима, как преданного и способного...» Н-ну, это понятно... «...для утверждения в высоком звании кандидата в рядовые Боевого Легиона». А вот твоя вторая писулька, капрал: «...В связи с вышеизложенным считаю своим долгом обратить внимание командования на необходимость тщательной проверки означенного кандидата в рядовые Боевого Легиона М. Сима». Массаракш! Чего ж тебе, в конце концов, надо, капрал?
— Господин ротмистр! — взволнованно сказал Гай. — Но я действительно в трудном положении! Я знаю кандидата Сима как способного и преданного задачам Легиона гражданина. Я уверен, что он принесет много пользы. Но, полагая, что в Легионе место только кристально чистым...
— Да, да! — нетерпеливо сказал господин ротмистр. — Короче говоря, вот что, капрал. Одну из этих бумаг ты сейчас же заберешь и порвешь. Надо же соображать. Я не могу явиться к бригадиру с двумя бумажками. Либо да, либо нет. Мы в Легионе, а не на философском факультете, капрал! Две минуты на размышление.
Господин ротмистр извлек из стола толстую папку с делами и с отвращением бросил ее перед собой. Гай уныло посмотрел на часы. Было ужасно трудно сделать этот выбор. Бесчестно и недостойно легионера было скрыть от командования свое недостаточное знание рекомендуемого, даже если речь шла о Максиме. Но с другой стороны, бесчестно и недостойно легионера было уклониться от ответственности, взваливая решение на господина ротмистра, который видел Максима только два раза, да и то в ротном строю. Ну хорошо. Еще раз. За: горячо и близко к сердцу принял задачи Легиона; без сучка и задоринки прошел освидетельствование в Департаменте общественного здоровья; будучи направлен господином ротмистром Тоотом и господином штаб-врачом Зогу в какое-то секретное учреждение, по-видимому для проверки, проверку эту выдержал. (Правда, это показание самого Максима, документы он потерял, но как же иначе он мог оказаться не под надзором?); наконец, отважен, прирожденный боец — в одиночку расправился с бандой Крысолова, — симпатичен, прост в общении, добродушен, абсолютно бескорыстен. И вообще человек необычайных способностей. Против: совершенно неизвестно, кто он и откуда; о прошлом своем либо ничего не помнит, либо не желает сообщать... и у него нет никаких документов. Но так ли уж все это подозрительно? Правительство контролирует только границы и центральный район. Две трети территории страны до сих пор погрязают в анархии, там голод, эпидемия, народ оттуда бежит, и все без документов, а молодые даже не знают, что такое документы. И сколько среди них больных, потерявших память, даже выродков... В конце концов, главное — что Максим не выродок...
— Ну, капрал? — произнес господин ротмистр.
— Так точно, господин ротмистр! — отчаянным голосом сказал Гай. — Разрешите...
Он взял свой рапорт с просьбой проверить Максима и медленно разорвал его.
— Пр-равильное решение! — гаркнул господин ротмистр. — Молодец, легионер! Бумаги, чернила, проверки... Все проверит бой! Вот когда мы сядем в наши машины и двинем в зону атомных ловушек, тогда мы сразу увидим, кто наш, а кто — нет.
— Так точно, — без особой уверенности сказал Гай. Он хорошо понимал старого вояку, но не менее хорошо он видел, что герой приморских инцидентов несколько заблуждается. Бой, конечно, боем, но и чистота чистотой. Впрочем, Максима это не касается. Максим-то как раз чист.
— Массаракш! — произнес господин ротмистр. — Департамент здоровья его пропустил, а остальное — дело наше. — Произнеся эту загадочную фразу, он сердито посмотрел на Гая и добавил: — Легионер другу доверяет полностью, а если не доверяет, значит, это не друг, гнать его в шею. Ты меня удивил, капрал. Ну ладно, марш к своей секции. Времени осталось мало... На операции я сам присмотрю за этим кандидатом.
Гай щелкнул каблуками и вышел. За дверью он позволил себе улыбнуться. Все-таки старый вояка не удержался и принял ответственность на себя. Хорошее всегда хорошо. Теперь можно с чистой совестью считать Максима своим другом. Мака Сима. Настоящую его фамилию не произнести. То ли он ее придумал, пока был в бреду, то ли все-таки действительно он родом из этих горцев... Как, бишь, звали ихнего древнего царя?.. Заремчичакбешмусарайи... Гай вышел на плац и поискал глазами свою секцию. Неутомимый Панди гонял ребят через верхнее окно макета трехэтажного здания. Ребята взмокли, и это было плохо, потому что до операции оставался всего час.
— О-отста-вить! — крикнул Гай еще издали.
— От-ставить! — заорал Панди. — Становись!
Секция быстро построилась. Панди скомандовал:
— Смирно! — строевым шагом подошел к Гаю и доложил: — Господин капрал, секция занимается преодолением штурмового городка.
— Встаньте в строй, — приказал Гай, стараясь интонацией выразить неодобрение, как это превосходно умел делать капрал Серембеш. Он прошелся перед строем, заложив руки за спину, вглядываясь в знакомые лица.
Серые, голубые и синие глаза, выражающие готовность выполнить любой приказ и потому слегка выкаченные, следили за каждым его движением. Он ощутил, как они близки и дороги ему, эти двенадцать здоровенных парней — шестеро действительных рядовых Легиона на правом фланге и шестеро кандидатов в рядовые на левом, — все в ладных черных комбинезонах с начищенными пуговицами, все в блестящих сапогах с короткими голенищами, все в беретах, лихо сдвинутых на правую бровь... Нет, не все. Посередине строя, на правом фланге кандидатов, башней возвышался кандидат Мак Сим, очень ладный парень, любимец, как это ни прискорбно для командира иметь любимцев, но... гм... То, что у него не выкачены его странные коричневые глаза, ладно, научится со временем. Но вот... гм...
Гай подошел к Максиму и застегнул ему верхнюю пуговицу. Затем встал на цыпочки и поправил берет. Кажется, все... Опять он в строю растянул рот до ушей... Ну ладно. Отвыкнет. Кандидат все-таки, самый младший в секции...
Чтобы сохранить видимость справедливости, Гай поправил пряжку у соседа Максима, хотя надобности в этом не было. Потом он сделал три шага назад и скомандовал «вольно». Секция встала «вольно» — слегка отставила правую ногу и заложила руки за спину.
— Ребята, — сказал Гай, — сегодня мы в составе роты выступаем на регулярную операцию по обезвреживанию агентуры потенциального противника. Операция проводится по схеме тридцать три. Господа действительные рядовые, несомненно, помнят свои обязанности по этой схеме, господам же кандидатам, забывающим застегивать пуговицы, я считаю полезным напомнить. Секция получает один подъезд. Секция делится на четыре группы: три тройки и наружный резерв. Тройки в составе двух действительных рядовых и одного кандидата, не поднимая шума, последовательно обходят квартиры. Вступив в квартиру, каждая тройка действует следующим образом: кандидат охраняет парадный вход, второй рядовой, ни на что не отвлекаясь, занимает черный ход, старший производит осмотр помещений. Резерв из трех кандидатов во главе с командиром секции — в данном случае со мною — остается внизу в подъезде с задачей, немедленно оказать помощь той тройке, которой это понадобится. Состав троек и резерва вам известен... Внимание! — сказал он, отступая еще на шаг. — На тройки и резерв — разберись!
Произошло короткое множественное движение. Секция разобралась. Никто не ошибся местом, никто не сцепился автоматами, никто не поскользнулся и не потерял берет, как это случалось на прошлых занятиях. На правом фланге резерва возвышался Максим и опять улыбался во весь рот. У Гая вдруг возникла дикая мысль, что Максим смотрит на все это как на забавную игру. Это было, конечно, не так, потому что так это быть не могло. Во всем была виновата, несомненно, эта дурацкая улыбочка...
— Недурственно, — проворчал Гай в подражание капралу Серембешу и благосклонно поглядел на Панди: молодец старик, вымуштровал ребят. — Внимание! — сказал он. — Секция, стройся!
Снова короткое множественное движение, прекрасное своей четкостью и безукоризненностью, и снова секция стояла перед ним одной шеренгой. Хорошо! Просто замечательно! Даже внутри все как-то холодеет. Гай опять заложил руки за спину и прошелся.
— Легионеры! — сказал он. — Мы — опора и единственная надежда Огненосных Творцов. Только на нас они могут без оглядки положиться в своем великом деле. (Это была правда, самая истинная правда, и было в этом очарование и отрешенность.) Боевой Легион есть железный кулак истории. Он призван смести все преграды на нашем гордом пути. Меч Боевого Легиона закален в огнях сражений, он жжет нам руки, и остудить его могут только потоки вражеской крови. Враг хитер. Он труслив, но упорен. Огненосные Творцы приказали нам сломить это коварное упорство, с корнем вырвать го, что влечет нас назад, к хаосу и растлевающей анархии. Таков наш долг, и мы счастливы исполнить его. Мы идем на многие жертвы, мы нарушаем покой наших матерей, братьев и детей, мы лишаем заслуженного отдыха честного рабочего, честного чиновника, честного торговца и промышленника. Они знают, почему мы вынуждены вторгаться в их дома, и встречают нас как своих лучших друзей, как своих защитников. Помните это и не давайте себе увлечься в благородном пылу выполнения своей задачи. Друг — это друг, а враг — это враг... Вопросы есть?
— Нет! — рявкнула секция в двенадцать глоток.
— Смир-рна! Тридцать минут на отдых и проверку снаряжения. Р-разойдись!
Секция бросилась врассыпную, а затем легионеры группами по двое и по трое направились к казарме. Гай неторопливо пошел следом, ощущая приятную опустошенность. Максим ждал его поодаль, заранее улыбаясь.
— Давай поиграем в слова, — предложил он.
Гай мысленно застонал. Одернуть бы его, одернуть! Что может быть более противоестественно, нежели кандидат, молокосос, за полчаса до начала операции пристающий с фамильярностями к капралу!
— Сейчас не время, — по возможности сухо сказал он.
— Ты волнуешься? — спросил Максим сочувственно.
Гай остановился и поднял глаза к небу. Ну что делать, что делать? Оказывается, совершенно невозможно цукать такого вот добродушного наивного гиганта, да еще спасителя твоей сестры, да еще — чего греха таить — человека, во всех иных отношениях, кроме строевого, гораздо выше тебя самого... Гай огляделся и сказал просительно:
— Послушай, Мак, ты ставишь меня в неловкое положение. Когда мы в казарме, я твой начальник, я приказываю — ты подчиняешься. Я тебе сто раз говорил...
— Но я же готов подчиняться, приказывай! — возразил Максим. — Я знаю, что такое дисциплина. Приказывай.
— Я уже приказал. Займись подгонкой снаряжения.
— Нет, извини меня, Гай, ты приказал не так. Ты приказал отдыхать и подгонять снаряжение. Ты забыл? Снаряжение я подогнал, теперь отдыхаю. Давай поиграем, я придумал хорошее слово...
— Мак, пойми: подчиненный имеет право обращаться к начальнику, во-первых, только по установленной форме, а во-вторых, исключительно по службе.
— Да, я помню. Параграф девять... Но ведь это во время службы. А сейчас мы с тобой отдыхаем...
— Откуда ты взял, что я отдыхаю? — спросил Гай. Они стояли за макетом забора с колючей проволокой, и здесь их, слава богу, никто не видел: никто не видит, как эта башня привалилась плечом к забору и все время порывается взять своего капрала за пуговицу. — Я отдыхаю только дома, но даже дома я никакому подчиненному не позволил бы... Послушай, отпусти мою пуговицу и застегни свою...
Максим застегнулся и сказал:
— На службе — одно, дома — другое. Зачем?
— Давай не будем об этом говорить. Мне надоело повторять тебе одно и то же... Кстати, когда ты перестанешь улыбаться в строю?
— В уставе об этом не сказано, — немедленно ответил Максим. — А что касается «повторять одно и то же», то вот что. Ты не обижайся, Гай, я знаю: ты не говорец... не речевик...
— Кто?
— Ты не человек, который умеет красиво говорить.
— Оратор?
— Оратор... Да, не оратор. Но все равно. Ты сегодня обратился к нам с речью. Слова правильные, хорошие. Но когда ты дома говорил мне о задачах Легиона и о положении страны, это было очень интересно. Это было очень по-твоему. А здесь ты в седьмой раз говоришь одно и то же, и все не по-твоему. Очень верно. Очень одинаково. Очень скучно. А? Не обиделся?
Гай не обиделся. То есть некая холодная иголочка кольнула его самолюбие: до сих пор ему казалось, что он говорит так же убедительно и гладко, как капрал Серембеш или даже господин ротмистр Тоот. Однако, если подумать, капрал Серембеш и господин ротмистр тоже повторяли все одно и то же в течение трех лет. И в этом нет ничего удивительного и тем более зазорного — ведь за три года никаких существенных изменений во внутреннем и во внешнем положении не произошло...
— А где это сказано в уставе, — спросил Гай, усмехаясь, — чтобы подчиненный делал замечания своему начальнику?
— Там сказано противоположное, — со вздохом признался Максим. — По-моему, это неверно. Ты ведь слушаешь мои советы, когда решаешь задачи по баллистике, и ты слушаешь мои замечания, когда ошибаешься в вычислениях.
— Это дома! — проникновенно сказал Гай. — Дома все можно.
— А если на стрельбах ты неправильно даешь нам прицел? Плохо учел поправку на ветер. А?
— Ни в коем случае, — твердо сказал Гай.
— Стрелять неправильно? — изумился Максим.
— Стрелять как приказано, — строго сказал Гай. — За эти десять минут, Мак, ты наговорил суток на пятьдесят карцера. Понимаешь?
— Нет, не понимаю... А если в бою?
— Что — в бою?
— Ты даешь неправильный прицел. А?
— Гм... — сказал Гай, который еще никогда в бою не командовал. Он вдруг вспомнил, как капрал Вахту во время разведки боем запутался в карте, загнал секцию под кинжальный огонь соседней роты, сам там остался и полсекции уложил, а ведь мы знали, что он запутался, но никто не подумал его поправить.
«Господи, — сообразил вдруг Гай, — да нам бы и в голову не пришло, что можно его поправить. А вот Максим этого не понимает и даже не то что не понимает — понимать тут нечего, — а просто не признает. Сколько раз уже так было: берет самоочевидную вещь и отвергает ее, и никак его не убедишь, и даже наоборот — сам начинаешь сомневаться, голова идет кругом, и приходишь в полное обалдение... Нет, он все-таки не обыкновенный человек... редкий, небывалый человек... Язык выучил за месяц. Грамоту осилил в два дня. Еще в два дня перечитал все, что у меня есть. Математику и механику знает лучше господ преподавателей, а ведь у нас на курсах преподают настоящие специалисты. Или вот взять дядюшку Каана...»
Последнее время старик все свои монологи за столом обращал исключительно к Максиму. Более того, он не раз уже дал понять, что Максим является, пожалуй, единственным человеком, который в наше время проявляет такие способности и такой интерес к ископаемым животным. Он рисовал Максиму на бумажке каких-то ужасных зверей, и Максим рисовал ему на бумажке каких-то еще более ужасных зверей, и они спорили, который из этих зверей более древний, и кто от кого произошел, и почему это случилось; в ход шли научные книги из дядюшкиной библиотеки, и все равно бывало, что Максим не давал старику рта открыть, причем Гай с Радой не понимали ни слова из того, что говорилось, а дядюшка то кричал до хрипоты, то рвал на клочки рисунки и топтал их ногами, обзывал Максима невеждой, хуже дурака Шапшу, то вдруг принимался яростно чесать обеими руками реденькие седые волосы на затылке и бормотал с потрясенной улыбкой: «Смело, массаракш, смело... У вас есть фантазия, молодой человек!» Особенно запомнился Гаю один вечер, когда старикана громом ударило заявление Максима, будто некоторые из этих допотопных тварей передвигались на задних ногах, каковое заявление, по-видимому, очень просто и естественно разрешало некий давний научный спор...
Математику он знает, механику он знает, военную химию он знает превосходно, палеонтологию — господи, да кому в наше время известна палеонтология! — палеонтологию он тоже знает... Рисует как художник, поет как артист... и добрый, неестественно добрый. Разогнал и перебил бандитов, один — восьмерых, голыми руками, другой бы на его месте ходил петухом, на всех поплевывал, а он мучился, ночи не спал, огорчался, когда его хвалили и благодарили, а потом однажды взорвался: весь побелел и крикнул, что это нечестно — хвалить за убийство... Господи, это же какая проблема была — уговорить его в Легион! Все понимает, со всем согласен, хочет, но ведь там, говорит, придется стрелять. В людей. Я ему говорю: в выродков, а не в людей, в отребье, хуже бандитов... Договорились, слава богу, что сначала, пока не привыкнет, будет просто обезоруживать... И смешно, и страшно как-то. Нет, недаром он все проговаривается, будто пришел из другого мира. Знаю я этот мир. Даже книга об этом есть у дядюшки — «Туманная Страна Зартак». Лежит, дескать, в Алебастровых горах долина Зартак, где живут счастливые люди... По описанию все они там такие, как Максим. И вот что удивительно: если кто-нибудь из них покинет свою долину, то сразу забывает, откуда он родом и что с ним было раньше, помнит только, что из другого мира... Дядюшка, правда, говорит, что никакой такой долины нет, все это выдумка, есть только хребет Зартак, а потом, говорит, в ту войну долбанули по этому хребту супербомбами, так что у горцев там на всю жизнь память отшибло...
— Ты почему молчишь? — спросил Максим. — Ты обо мне думаешь?
Гай отвел глаза.
— Ты вот что... — сказал он. — Я тебя только об одном прошу: в интересах дисциплины никогда не показывай виду, что ты больше меня знаешь. Смотри, как ведут себя другие, и веди себя точно так же.
— Я стараюсь, — грустно сказал Максим. Он подумал немного и добавил: — Трудно привыкнуть. У нас все это не так.
— А как твоя рана? — спросил Гай, чтобы сменить тему.
— Мои раны заживают быстро, — рассеянно сказал Максим. — Слушай, Гай, давай после операции поедем прямо домой. Ну что ты так смотришь? Я очень соскучился по Раде. А ты нет? Ребят мы завезем в казарму, а потом на грузовике поедем домой. Шофера отпустим...
Гай набрал в грудь побольше воздуху, но тут серебристый ящик громкоговорителя на столбе почти над их головами зарычал, и голос дежурного по бригаде скомандовал:
— Шестая рота, выходи строиться на плац! Внимание, шестая рота...
И Гай только рявкнул:
— Кандидат Сим! Прекратить разговоры, марш на построение! — Максим рванулся, но Гай поймал его за ствол автомата. — Я тебя очень прошу... — сказал он. — Как все! Держись, как все! Сегодня сам ротмистр будет за тобой наблюдать...
Через три минуты рота построилась. Уже стемнело, над плацем вспыхнули прожектора. Позади строя мягко ворчали двигателями грузовики. Как всегда перед операцией, господин бригадир в сопровождении господина ротмистра Чачу молча обошел строй, осматривая каждого легионера. Он был спокоен, глаза прищурены, уголки губ приветливо приподняты. Потом, так ничего и не сказав, он кивнул господину ротмистру и удалился. Господин ротмистр, переваливаясь и помахивая искалеченной рукой, вышел перед строем и повернул к легионерам свое темное, почти черное лицо.
— Легионеры! — каркнул он голосом, от которого у Гая пошли мурашки по коже. — Перед нами дело. Выполним его достойно... Внимание, рота! По машинам! Капрал Гаал, ко мне!
Когда Гай подбежал и вытянулся перед ним, господин ротмистр сказал негромко:
— Ваша секция имеет специальное задание. По прибытии на место из машины не выходить. Командовать буду я сам.
У грузовика были отвратительные амортизаторы, и это очень чувствовалось на отвратительной булыжной мостовой. Кандидат Максим, зажав автомат между коленями, заботливо придерживал Гая за поясной ремень, рассудив, что капралу, который так заботится об авторитете, не к лицу реять над скамейками, как какому-нибудь кандидату Зойзе. Гай не возражал, а может быть, он и не замечал предупредительности своего подчиненного. После разговора с ротмистром Гай был чем-то сильно озабочен, и Максим радовался, что по расписанию им придется быть рядом и он сможет помочь, если понадобится.
Грузовики миновали Центральный театр, долго катились вдоль вонючего Имперского канала, потом свернули по длинной, пустой в этот час Сапожной улице и принялись колесить кривыми переулочками какого-то предместья, где Максим никогда еще не бывал. А побывал он за последнее время во многих местах и изучил город основательно, по-хозяйски. Он вообще много узнал за эти сорок с лишним дней и разобрался наконец в положении. Положение оказалось гораздо менее утешительным и более причудливым, чем он думал.
Он еще корпел над букварем, когда Гай пристал к нему с вопросом, откуда он, Максим, взялся. Рисунки не помогали: Гай воспринимал их с какой-то странной улыбкой и продолжал повторять все тот же вопрос: «Откуда ты?» Тогда Максим в раздражении ткнул пальцем в потолок и сказал: «Из неба». К его удивлению, Гай нашел это вполне естественным и стал с вопросительной интонацией сыпать какими-то словами, которые Максим вначале принял за названия планет местной системы. Но Гай развернул карту мира в меркаторской проекции, и тут выяснилось, что это вовсе не названия планет, а названия стран-антиподов. Максим пожал плечами, произнес все известные ему выражения отрицания и стал изучать карту, так что разговор на этом временно прекратился.
Вечером дня через два Максим и Рада смотрели телевизор. Шла какая-то очень странная передача, нечто вроде кинофильма без начала и конца, без определенного сюжета, с бесконечным количеством действующих лиц — довольно жутких лиц, действующих довольно дико, с точки зрения любого гуманоида. Рада смотрела с интересом, вскрикивала, хватала Максима за рукав, два раза всплакнула, а Максим быстро соскучился и задремал было под уныло-угрожающую музыку, как вдруг на экране мелькнуло что-то знакомое. Он даже глаза протер. На экране была Пандора, угрюмый тахорг тащился через джунгли, давя деревья, и вдруг появился Петер с манком в руках; очень сосредоточенный и серьезный, он пятился задом, споткнулся о корягу и полетел спиной прямо в болото. С огромным изумлением Максим узнал собственную ментограмму, а потом еще одну и еще, но не было никаких комментариев, играла все та же музыка, и Пандора исчезла, уступив место слепому тощему человеку, который полз по потолку, плотно затянутому пыльной паутиной. «Что это?» — спросил Максим, тыча пальцем в экран. «Передача, — нетерпеливо сказала Рада. — Интересно. Смотри». Он так и не добился толку, и в голову ему пришла мысль о многих десятках разнообразных пришельцев, добросовестно вспоминающих свои миры. Однако он быстро отказался от этой мысли: миры были слишком страшны и однообразны — глухие душные комнатки, бесконечные коридоры, заставленные мебелью, которая вдруг прорастала гигантскими колючками; спиральные лестницы, винтом уходящие в непроглядный мрак узких колодцев; зарешеченные подвалы, набитые тупо копошащимися телами, между которыми выглядывали болезненно-неподвижные лица, как на картинках Иеронима Босха, — это было больше похоже на бредовую фантазию, чем на реальные миры. На фоне этих видений ментограммы Максима ярко сияли реализмом, переходящим из-за Максимова темперамента в романтический натурализм. Такие передачи повторялись почти каждый день, назывались они «Волшебное путешествие», но Максим так до конца и не понял, в чем их соль. В ответ на его вопросы Гай и Рада недоуменно пожимали плечами и говорили: «Передача. Чтобы было интересно. Волшебное путешествие. Сказка. Ты смотри, смотри! Бывает смешно, бывает страшно». И у Максима зародились самые серьезные сомнения в том, что целью исследований профессора Бегемота был контакт и что вообще эти исследования были исследованиями.
Этот интуитивный вывод косвенно подтвердился еще декаду спустя, когда Гай прошел по конкурсу в заочную школу претендентов на первый офицерский чин и принялся зубрить математику и механику. Схемы и формулы из элементарного курса баллистики привели Максима в недоумение. Он пристал к Гаю; Гай сначала не понял, а потом, снисходительно ухмыляясь, объяснил ему космографию своего мира. И тогда выяснилось, что обитаемый остров не есть шар, не есть геоид и вообще не является планетой.
Обитаемый остров был Миром, единственным миром во Вселенной. Под ногами аборигенов была твердая поверхность Сферы Мира. Над головами аборигенов имел место гигантский, но конечного объема газовый шар неизвестного пока состава и обладающий не вполне ясными пока физическими свойствами. Существовала теория о том, что плотность газа быстро растет к центру газового пузыря, и там происходят какие-то таинственные процессы, вызывающие регулярное изменение яркости так называемого Мирового Света, обуславливающие смену дня и ночи. Кроме короткопериодических, суточных, изменений состояния Мирового Света, существовали долго-периодические, порождающие сезонные колебания температуры и смену времен года. Сила тяжести была направлена от центра Сферы Мира перпендикулярно к ее поверхности. Короче говоря, обитаемый остров существовал на внутренней поверхности огромного пузыря в бесконечной тверди, заполняющей остальную Вселенную.
Максим, совершенно обалдевший от неожиданности, пустился было в спор, но очень скоро оказалось, что они с Гаем говорят на разных языках, что понять друг друга им гораздо труднее, чем убежденному коперниканцу понять убежденного последователя Птолемея. Все дело было в удивительных свойствах атмосферы этой планеты. Во-первых, необычайно сильная рефракция непомерно задирала горизонт и спокон веков внушала аборигенам, что их земля не плоская и, уж во всяком случае, не выпуклая — она вогнутая. «Встаньте на морском берегу, — рекомендовали школьные учебники, — и проследите за движением корабля, отошедшего от пристани. Сначала он будет двигаться как бы по плоскости, но чем дальше он будет уходить, тем выше он будет подниматься, пока не скроется в атмосферной дымке, заслоняющей остальную часть Мира». Во-вторых, атмосфера эта была весьма плотна и фосфоресцировала днем и ночью, так что никто никогда здесь не видел звездного неба, а случаи наблюдения солнца были записаны в хрониках и служили основой для бесчисленных попыток создать теорию Мирового Света.
Максим понял, что находится в гигантской ловушке, что контакт сделается возможным только тогда, когда ему удастся буквально вывернуть наизнанку естественные представления, сложившиеся в течение тысячелетий. По-видимому, это уже пытались здесь проделать, если судить по распространенному проклятию «массаракш», что дословно означало «мир наизнанку»; кроме того, Гай рассказал о чисто абстрактной математической теории, рассматривавшей Мир иначе. Теория эта возникла еще в древние времена, преследовалась некогда официальной религией, имела своих мучеников, получила математическую стройность трудами гениальных математиков прошлого века, но так и осталась чисто абстрактной, хотя, как и большинство абстрактных теорий, нашла себе наконец практическое применение — совсем недавно, когда были созданы сверхдальнобойные снаряды.
Обдумав и сопоставив все, что стало ему известно, Максим понял, во-первых, что все это время выглядел здесь сумасшедшим и что недаром его ментограммы включены в шизоидное «Волшебное путешествие». Во-вторых, он понял, что до поры до времени он должен молчать о своем инопланетном происхождении, если не хочет вернуться к Бегемоту. Это означало, что обитаемый остров не придет к нему на помощь, что рассчитывать он может только на себя, что постройка нуль-передатчика откладывается на неопределенное время, а сам он застрял здесь, по-видимому, надолго и, может быть — массаракш! — навсегда. Безнадежность ситуации едва не сбила его с ног, но он стиснул зубы и принудил себя рассуждать чисто логически. Маме придется пережить тяжелое время. Ей будет безмерно плохо, и одна эта мысль отбивает всякую охоту рассуждать логически. «Будь он неладен, этот бездарный, замкнутый мир!.. Но у меня есть только два выхода: либо тосковать по невозможному и бессильно кусать локти, либо собраться и жить. По-настоящему жить, как я хотел жить всегда, — любить друзей, добиваться цели, драться, побеждать, терпеть поражения, получать по носу, давать сдачи — все, что угодно, только не заламывать в отчаянии руки...» Он прекратил разговоры о строении Вселенной и принялся расспрашивать Гая об истории и социальном устройстве своего обитаемого острова.
С историей дело обстояло неважно. Гай имел из нее только отрывочные сведения, и серьезных книг у него не было. В городской библиотеке серьезных книг не оказалось тоже. Но можно было понять, что приютившая Максима страна была раньше значительно обширней и владела огромным количеством заморских колоний, из-за которых в конце концов и вспыхнула разрушительная война с ныне уже забытыми соседними государствами. Война эта охватила весь мир, погибли миллионы и миллионы, были разрушены тысячи городов, десятки малых и больших государств оказались сметены с лица земли, в мире и в стране воцарился хаос. Наступили дни жестокого голода и эпидемии. Попытки народных восстаний кучка эксплуататоров подавляла ядерными снарядами. Страна и мир шли к гибели. Положение было спасено Огненосными Творцами. Судя по всему, это была анонимная группа молодых офицеров генерального штаба, которые в один прекрасный день, располагая всего двумя дивизиями, очень недовольными тем, что их направляют в атомную мясорубку, организовали путч и захватили власть. С тех пор положение в значительной степени стабилизовалось, и война утихла как-то сама собой, хотя мира никто ни с кем не заключал.
Максим понимал, что политическое устройство страны весьма далеко от идеального. Однако ясно было, что популярность Огненосных Творцов чрезвычайно велика, причем во всех слоях общества. Экономическая основа этой популярности оставалась Максиму непонятна, но дело было, очевидно, в том, что военная верхушка сумела укротить аппетиты промышленников, чем завоевала популярность у рабочих и привела в подчинение рабочих, чем завоевала популярность у промышленников. Впрочем, это были только догадки. Гаю, например, такая постановка вопроса вообще казалась диковинной: такое понятие, как «класс», для него не существовало, и противоречий между социальными группами он представить себе не мог...
Внешнее положение страны продолжало оставаться крайне напряженным. К северу от нее располагались два больших государства — Хонти и Пандея, — бывшие не то провинции, не то колонии. Об этих странах никто ничего не знал, но было известно, что обе страны питают самые агрессивные намерения, непрерывно засылают диверсантов и шпионов, организуют инциденты на границах и готовят войну. Цель этой войны была Гаю неясна, да он никогда и не задавался таким вопросом. На севере были враги, с агентурой он дрался насмерть, и это ему было вполне достаточно.
К югу, за приграничными лесами, лежала пустыня, выжженная ядерными взрывами, образовавшаяся на месте целой группы стран, принимавших в военных действиях наиболее активное участие. О том, что происходит на этих миллионах квадратных километров, тоже не было известно ничего, да это никого и не интересовало. Южные границы подвергались непрерывным атакам колоссальных орд полудикарей-выродков, которыми кишели леса за рекой Голубая Змея. Проблема южных границ считалась чуть ли не важнейшей. Там было очень трудно, и именно там концентрировались отборные части Боевого Легиона. Гай прослужил в этих частях три года и рассказывал невероятные вещи.
Южнее пустыни, на другом конце единственного материка планеты, тоже могли сохраниться какие-то государства, но они не давали о себе знать. Зато постоянно и неприятно давала о себе знать так называемая Островная Империя, обосновавшаяся на трех мощных архипелагах антарктической зоны. Мировой Океан принадлежал ей. Радиоактивные воды бороздил огромный флот подводных лодок, вызывающе окрашенных в снежно-белый цвет, оснащенных по последнему слову истребительной техники, с бандами специально выдрессированных головорезов на борту. Жуткие, как призраки, белые субмарины держали под страшным напряжением прибрежные районы, производя неспровоцированные обстрелы и высаживая пиратские десанты. Этой белой угрозе также противостоял Легион.
Картина всемирного хаоса и разрушения потрясла Максима. Перед ним была планета-могильник, планета, на которой еле-еле теплилась разумная жизнь, и эта жизнь готова была окончательно погасить себя в любой момент.
Максим слушал Раду, ее спокойные и страшные рассказы о том, как мать получила известие о гибели отца (отец, врач-эпидемиолог, отказался покинуть зараженный район, а у государства в те годы не было ни времени, ни возможностей бороться с эпидемией регулярными средствами, и на район была просто сброшена бомба); о том, как после смерти матери она, Рада, чтобы прокормить маленького Гая и совершенно беспомощного дядюшку Каана, по восемнадцать часов в сутки работала судомойкой на пересылочном пункте, потом уборщицей в роскошном притоне для спекулянтов, потом выступала в «женских бегах с тотализатором», потом сидела в тюрьме, правда недолго, но осталась без работы и несколько месяцев просила милостыню...
Максим слушал дядюшку Каана, когда-то крупного ученого, как в первый же год войны упразднили Академию наук, составили Его Императорского Величества Академии батальон; как во время голода сошел с ума и повесился создатель эволюционной теории; как варили похлебку из кузнечиков и сорной травы; как голодная толпа разгромила зоологический музей и захватила в пищу заспиртованные препараты...
Максим слушал Гая, его бесхитростные рассказы о строительстве башен противобаллистической защиты, как по ночам людоеды подкрадываются к строительным площадкам и похищают воспитуемых и сторожевых легионеров; как в темноте неслышными призраками нападают беспощадные упыри, полулюди, полузвери, полусобаки; слушал его восторженную хвалу системе ПБЗ, которая создавалась ценой невероятных лишений в последние годы войны, которая, по сути, и прекратила военные действия, защитив страну с воздуха, которая и теперь является единственной гарантией безопасности от агрессии с севера... А эти мерзавцы устраивают нападения на отражательные башни, — продажные шкуры, убийцы женщин и детей, купленные на грязные деньги Хонти и Пандеи, выродки, мразь хуже всякого Крысолова... Нервное лицо Гая искажалось ненавистью. «Здесь самое главное, — говорил он, постукивая кулаком по столу, — и поэтому я пошел в Легион, не на завод, не в поле, не в контору — в Боевой Легион, который сейчас спасает все...»
Максим слушал жадно, как страшную, невозможную сказку, тем более страшную и невозможную, что все это было на самом деле, что многое и многое из этого продолжало быть, а самое страшное и самое невозможное из этого могло повториться в любую минуту. Смешно и стыдно стало ему думать о собственных неурядицах, игрушечными сделались его собственные проблемы — какой-то там контакт, нуль-передатчик, ломанье рук...
Грузовики круто свернули в неширокую улицу с многоэтажными кирпичными домами, и Панди сказал: «Приехали». Прохожие на тротуаре шарахнулись к стенам, закрываясь от света фар. Грузовик остановился, над кабиной выдвинулась длинная телескопическая антенна.
— Выходи! — в один голос гаркнули командиры второй и третьей секции, и легионеры посыпались через борта.
— Первой секции остаться на месте! — скомандовал Гай.
Вскочившие было Панди и Максим снова сели.
— На тройки разберись! — орали капралы на тротуаре. — Вторая секция, вперед! Третья секция, за мной! Вперед, марш!
Прогрохотали подкованные сапоги, кто-то восторженно взвизгнул:
— Господа! Боевой Легион!
— Да здравствует Боевой Легион!
— Ура! — закричали бледные люди, прижимавшиеся к стенам, чтобы не мешать. Эти прохожие словно ждали здесь легионеров и теперь, дождавшись, радовались им, как лучшим друзьям.
Сидевший справа от Максима кандидат Зойза, совсем еще мальчишка, длинный как жердь, с белесым пухом на щеках, ткнул Максима острым локтем в бок и радостно подмигнул. Максим улыбнулся в ответ. Секции уже исчезли в подъездах; у дверей стояли только капралы, стояли твердо, надежно, с неподвижными лицами под беретами набекрень. Хлопнула дверь кабины, и голос ротмистра Чачу прокаркал:
— Первая секция, выходи, стройся!
Максим прыжком перемахнул через борт. Когда секция построилась, ротмистр движением руки остановил Гая, подбежавшего с рапортом, подошел к строю вплотную и скомандовал:
— Надеть каски!
Действительные рядовые словно ждали этой команды, а кандидаты несколько замешкались. Ротмистр, нетерпеливо постукивая каблуком, дождался, пока Зойза справится с подбородочным ремнем, и скомандовал «направо» и «бегом вперед». Он сам побежал впереди, неуклюже-ловкий, сильно отмахивая покалеченной рукой, ведя секцию под темную арку во двор, узкий и мрачный, как колодец, свернул под другую арку, такую же мрачную и вонючую, и остановился перед облупленной дверью под тусклой лампочкой.
— Внимание! — каркнул он. — Первая тройка и кандидат Сим пойдут со мной. Остальные останутся здесь. Капрал Гаал, по свистку тройку ко мне наверх, на четвертый этаж. Никого не выпускать, брать живыми, стрелять только в крайнем случае. Первая тройка и кандидат Сим, за мной!
Он толкнул облупленную дверь и исчез. Максим, обогнав Панди, кинулся следом. За дверью оказалась крутая каменная лестница с железными перилами, узкая, озаренная тусклым светом. Ротмистр резво, через три ступеньки, бежал вверх. Максим нагнал его и увидел в его руке пистолет. Тогда Максим на бегу снял с шеи автомат; на секунду он ощутил тошноту при мысли, что сейчас, может быть, придется стрелять в людей, но отогнал эту мысль — это были не люди, это были животные, хуже усатого Крысолова, хуже пятнистых обезьян. Гнусная слякоть под ногами, мутный свет, захарканные стены подтверждали и поддерживали это ощущение.
Второй этаж. Кухонные ароматы, в щели приоткрытой двери испуганное старушечье лицо. С мявом шарахается из-под ног ополоумевшая кошка. Третий этаж. Какой-то болван оставил посередине площадки ведро с помоями. Ротмистр сшибает ведро, помои летят в пролет. «Массаракш!..» — рычит снизу Панди. Парень и девушка, обнявшись, прижались в темном углу, лица у них испуганно-радостные. «Прочь, вниз!» — каркает на бегу ротмистр. Четвертый этаж. Безобразная коричневая дверь с облезшей масляной краской, исцарапанная жестяная дощечка с надписью «Гобби, зубной врач. Прием в любое время». За дверью кто-то протяжно кричит. Ротмистр останавливается и хрипит: «Замок!» По его черному лицу катится пот. Максим не понимает. Набежавший Панди отталкивает его, приставляет дуло автомата к двери под ручкой и дает очередь. Сыплются искры, летят куски дерева, и сейчас же, словно в ответ, за дверью глухо, сквозь протяжный крик, хлопают выстрелы, снова с треском летят щепки, что-то горячее, плотное с гнусным визгом проносится у Максима над головой. Ротмистр распахивает дверь — там темно, желтые вспышки выстрелов озаряют клубы дыма. «За мной!» — хрипит ротмистр и ныряет головой вперед навстречу вспышкам. Максим и Панди рвутся вслед за ним; дверь узкая, придавленный Панди коротко вякает. Коридор, духота, пороховой дым. Угроза слева. Максим выбрасывает руку, ловит горячий ствол, рвет оружие от себя и вверх. Тихо, но ужасающе отчетливо хрустят чьи-то вывернутые суставы, большое мягкое тело застывает в безвольном падении. Впереди, в дыму, ротмистр каркает: «Не стрелять! Брать живьем!» Максим бросает автомат и врывается в большую освещенную комнату. Здесь очень много книг и картин, и стрелять здесь не в кого. На полу корчатся двое мужчин. Один из них все время кричит, уже охрип, но все кричит. В кресле, откинув голову, лежит в обмороке женщина — белая до прозрачности. Комната полна болью. Ротмистр стоит над кричащим человеком и озирается, засовывая пистолет в кобуру. Сильно толкнув Максима, в комнату вваливается Панди, за ним легионеры волокут грузное тело того, кто стрелял. Кандидат Зойза, мокрый и взволнованный, без улыбки протягивает Максиму брошенный автомат. Ротмистр поворачивает к ним свое страшное черное лицо. «А где еще один?» — каркает он, и в тот же момент падает синяя портьера, с подоконника тяжело соскакивает длинный худой человек в белом запятнанном халате. Он как слепой идет на ротмистра, медленно поднимая два огромных пистолета на уровень стеклянных от боли глаз. «Ай!» — кричит Зойза...
Максим стоял боком, и у него не оставалось времени повернуться. Он прыгнул изо всех сил, но человек все-таки успел один раз нажать на спусковые крючки. Максиму опалило лицо, пороховая гарь забила рот, а пальцы его уже сомкнулись на запястьях белого халата, и пистолеты со стуком упали на пол. Человек опустился на колени, уронил голову и, когда Максим отпустил его, мягко повалился ничком.
— Ну-ну-ну, — сказал ротмистр с непонятной интонацией. — Кладите этого сюда же, — приказал он Панди. — А ты, — сказал он бледному и мокрому Зойзе, — беги вниз и сообщи командирам секций, где я нахожусь. Пусть доложат, как у них дела. (Зойза щелкнул каблуками и метнулся к двери.) Да! Передай Гаалу, пусть поднимается сюда... Перестань орать, мразь! — прикрикнул он на стонавшего человека и легонько стукнул его носком сапога в бок. — Э, бесполезно. Хлипкая дрянь, мусор... Обыскать! — приказал он Панди. — И положите их всех в ряд. Тут же, на полу. И эту тоже, а то расселась в единственном кресле...
Максим подошел к женщине, осторожно поднял ее и перенес на кровать. У него было смутно на душе. Не этого он ожидал. Теперь он и сам не знал, чего ожидал — желтых, оскаленных от ненависти клыков, злобного воя, свирепой схватки не на жизнь, а на смерть?.. Ему не с чем было сравнить свои ощущения, но он почему-то вспомнил, как однажды подстрелил тахорга и как это огромное, грозное на вид и беспощадное, по слухам, животное, провалившись с перебитым позвоночником в огромную яму, тихо, жалобно плакало и что-то бормотало в смертной тоске, почти членораздельно...
— Кандидат Сим! — гаркнул ротмистр. — Я приказал — на пол!
Он смотрел на Максима своими жуткими прозрачными глазами, губы у него словно свело судорогой, и Максим понял: не ему судить здесь и определять, что верно и что неверно. Он еще чужак, он еще не знает их ненависти и их любви... Он поднял женщину и положил ее рядом с грузным человеком, который стрелял в коридоре. Панди и второй легионер, пыхтя, старательно выворачивали карманы арестованных. А арестованные были без памяти. Все пятеро.
Ротмистр уселся в кресло, бросил на стол фуражку, закурил и пальцем поманил к себе Максима. Максим подошел, браво щелкнув каблуками.
— Почему бросил автомат? — негромко спросил ротмистр.
— Вы приказали не стрелять.
— Господин ротмистр.
— Так точно. Вы приказали не стрелять, господин ротмистр.
Ротмистр, прищурившись, пускал дым в потолок.
— Значит, если бы я приказал не разговаривать, ты бы откусил себе язык?
Максим промолчал. Разговор ему не нравился, но он хорошо помнил наставления Гая.
— Кто отец? — спросил ротмистр.
— Ученый, господин ротмистр.
— Жив?
— Так точно, господин ротмистр.
Ротмистр вынул изо рта сигарету и посмотрел на Максима.
— Где он?
Максим понял, что сболтнул. Надо было выкручиваться.
— Не знаю, господин ротмистр. Точнее, не помню.
— Однако то, что он ученый, ты помнишь... А что ты еще помнишь?
— Не знаю, господин ротмистр. Помню многое, но капрал Гаал полагает, что это ложная память.
В коридоре послышались торопливые шаги, в комнату вошел Гай и вытянулся перед ротмистром.
— Займись этими полутрупами, капрал, — сказал ротмистр. — Наручников хватит?
Гай поглядел через плечо на арестованных.
— С вашего разрешения, господин ротмистр, одну пару придется взять во второй секции.
— Действуй.
Гай выбежал, а в коридоре уже опять топали сапоги, появились командиры секций и доложили, что операция проходит успешно, двое подозрительных уже взяты, жильцы, как всегда, оказывают активную помощь. Ротмистр приказал скорее заканчивать, а по окончании передать в штаб парольное слово «Тамба». Когда командиры секций вышли, он закурил новую сигарету и некоторое время молчал, глядя, как легионеры снимают со стеллажей книги, перелистывают их и бросают на кровать.
— Панди, — сказал он негромко, — займись картинами. Только вот с этой осторожнее, не попорти, я возьму ее себе... — Затем он снова повернулся к Максиму. — Как ты ее находишь? — спросил он.
Максим посмотрел. На картине был морской берег, высокая водная даль без горизонта, сумерки и женщина, выходящая из моря. Ветер. Свежо. Женщине холодно.
— Хорошая картина, господин ротмистр, — сказал Максим.
— Узнаешь места?
— Никак нет. Этого моря я никогда не видел.
— А какое видел?
— Совсем другое, господин ротмистр. Но это ложная память.
— Вздор. Это же самое. Только ты смотрел не с берега, а с мостика, и под тобой была белая палуба, а позади, на корме, был еще один мостик, только пониже. А на берегу была не эта баба, а танк, и ты наводил под башню... Знаешь ты, щенок, что это такое, когда болванка попадает под башню? Массаракш... — прошипел он и раздавил окурок об стол.
— Не понимаю, — сказал Максим холодно. — Никогда в жизни ничего никуда не наводил.
— Как же ты можешь знать? Ты же ничего не помнишь, кандидат Сим!
— Я помню, что не наводил.
— Господин ротмистр!
— Помню, что не наводил, господин ротмистр. И я не понимаю, о чем вы говорите.
Вошел Гай в сопровождении двух кандидатов. Они принялись надевать на задержанных тяжелые наручники.
— Тоже ведь люди, — вдруг сказал ротмистр. — У них жены, у них дети. Они кого-то любили, их кто-то любил...
Он говорил, явно издеваясь, но Максим сказал то, что думал:
— Да, господин ротмистр. Они, оказывается, тоже люди.
— Не ожидал?
— Да, — господин ротмистр. Я ожидал чего-то другого. — Краем глаза он видел, что Гай испуганно смотрит на него. Но ему уже до тошноты надоело врать, и он добавил: — Я думал, что это действительно выродки. Вроде голых пятнистых... животных.
— Голый пятнистый дурак, — веско сказал ротмистр. — Деревня. Ты не в лесу... Здесь они как люди. Добрые милые люди, у которых при сильном волнении отчаянно болит головка. А у тебя не болит головка при волнении? — спросил он неожиданно.
— У меня никогда ничего не болит, господин ротмистр, — ответил Максим. — А у вас?
— Что-о?
— У вас такой раздраженный тон, — сказал Максим, — что я подумал...
— Господин ротмистр! — каким-то дребезжащим голосом крикнул Гай. — Разрешите доложить... Арестованные пришли в себя.
Ротмистр поглядел на него и усмехнулся.
— Не волнуйся, капрал. Твой дружок показал себя сегодня настоящим легионером. Если бы не он, ротмистр Чачу валялся бы сейчас с пулей в башке... — Он закурил третью сигарету, поднял глаза к потолку и выпустил толстую струю дыма. — У тебя верный нюх, капрал. Я бы хоть сейчас произвел этого молодчика в действительные рядовые... Массаракш, я бы произвел его в офицеры! У него бригадирские замашки, он обожает задавать вопросы офицерам... Но я теперь очень хорошо тебя понимаю, капрал. Твой рапорт имел все основания. Так что... погодим пока производить его... — Ротмистр поднялся, тяжело ступая, обошел стол и остановился перед Максимом. — Не будем даже производить его пока в действительные рядовые. Он хороший боец, но он еще молокосос... Мы займемся его воспитанием... Внимание! — заорал он вдруг. — Капрал Гаал, вывести арестованных! Рядовой Панди и кандидат Сим, забрать мою картину и все, что здесь есть бумажного! Отнести ко мне в машину!
Он повернулся и вышел из комнаты. Гай укоризненно посмотрел на Максима, но ничего не сказал. Легионеры поднимали задержанных, пинками и тычками ставили их на ноги и вели к двери. Задержанные не сопротивлялись. Они были как ватные, они шатались, у них подгибались ноги. Грузный человек, стрелявший в коридоре, громко постанывал и ругался шепотом. Женщина беззвучно шевелила губами. У нее странно светились глаза.
— Эй, Мак, — сказал Панди, — возьми вон одеяло с кровати, заверни в него книжки, а если не хватит, возьми еще и простыню. Как сложишь, тащи все вниз, а я картину понесу... Да не забудь автомат, дурья голова! Ты думаешь, чего на тебя господин ротмистр взъелся? Автомат ты бросил. Разве можно оружие бросать? Да еще в бою... Эх, ты!..
— Прекрати разговоры, Панди, — сердито сказал Гай, — бери картину и иди.
В дверях он обернулся к Максиму, постучал себя пальцем по лбу и скрылся. Было слышно, как Панди, спускаясь по ступенькам, во все горло распевает «Уймись, мамаша». Максим вздохнул, положил автомат на стол и подошел к груде книг, сваленных на кровать и на пол. Его вдруг осенило, что он здесь нигде еще не видел такого количества книг, разве что в библиотеке. В книжных лавках книг было, конечно, тоже больше, но только по количеству, а не по названиям.
Книги были старые, с пожелтевшими страницами. Некоторые немного обгорели, а некоторые, к удивлению Максима, оказались ощутимо радиоактивными. Не было времени как следует рассмотреть их.
Максим упаковал два узла и несколько секунд постоял, оглядывая комнату. Пустые, перекошенные стеллажи, темные пятна там, где были картины, сами картины, выдранные из рам, затоптанные... и никаких следов зубоврачебной техники. Он взял узлы и направился к двери, но потом вспомнил и вернулся за автоматом. На столе под стеклом лежали две фотографии. На одной — та самая прозрачная женщина, и на коленях у нее мальчик лет четырех с изумленно раскрытым ртом, а женщина — молодая, удовлетворенная, гордая... На второй фотографии — красивая местность в горах, темные купы деревьев, старинная полуразрушенная башня... Максим закинул автомат за спину и вернулся к узлам.
По утрам после завтрака бригада выстраивалась на плацу для зачтения приказов и развода на занятия. Это была самая тяжкая для Максима процедура, если не считать вечерних поверок. Зачтение любых приказов завершалось каждый раз настоящим пароксизмом восторга. Максим заставлял себя подавлять невольное отвращение к этому внезапному безумию, которое охватывало всю бригаду от командира до последнего кандидата; он ругал себя за скептицизм инородца и чужака; старался вдохновиться сам, твердил мысленно, что должен понять и проникнуться. Но ему было очень трудно.
С детства воспитанный в правилах сдержанно-иронического отношения к себе, в неприязни к громким словам, он почти злился на товарищей по строю, на ребят, добрых, простодушных, отличных, в общем, ребят, когда они вдруг, после зачтения приказа о наказании тремя сутками карцера кандидата имярек за пререкания с действительным рядовым таким-то, разевали рты, теряли присущее им добродушие и чувство юмора и принимались восторженно реветь «ура», а потом запевали со слезами на глазах «Марш Боевого Легиона» и повторяли его дважды, трижды, а иногда и четырежды. При этом из бригадной кухни высыпали даже повара и с энтузиазмом подхватывали, неистово размахивая черпаками и ножами, благо были вне строя. Памятуя, что в этом мире надо быть, как все, Максим тоже пел и тоже старался утратить чувство юмора, и это ему удавалось, но было противно, потому что сам он никакого подъема не испытывал, а испытывал одну лишь неловкость.
На этот раз взрыв энтузиазма последовал после приказа номер 127 о производстве действительного рядового Димбы в капралы, приказа номер 128 о вынесении благодарности кандидату в действительные рядовые Симу за проявленную в операции отвагу и приказа номер 129 о переводе казармы четвертой роты на ремонт. Едва бригадный адъютант засунул листки приказов в кожаный планшет, как бригадир, сорвав с себя фуражку, набрал полную грудь воздуха и скрипучим фальцетом закричал: «Вперед!.. Легионеры!.. Железные!..» И пошло, и пошло... Сегодня было особенно неловко, потому что Максим увидел, как по темным щекам ротмистра Чачу покатились слезы. Легионеры ревели быками, отбивая такт прикладами на массивных ременных пряжках. Чтобы не видеть этого и не слышать, Максим поплотнее зажмурился и взревел распаленным тахоргом, и голос его покрыл все голоса — во всяком случае, так ему казалось «Вперед, бесстрашные!..» — ревел он, уже никого больше не слыша, кроме себя. До чего же идиотские слова... Наверное, какой-нибудь капрал сочинил. Нужно очень любить свое дело, чтобы ходить в бой с такими словами. Он открыл глаза и увидел стаю черных птиц, всполошенно и беззвучно мечущихся над плацем... «Алмазный панцирь не спасет тебя, о враг...»
Потом все кончилось так же внезапно, как и началось. Бригадир обвел строй посоловевшими глазами, вспомнил, где он находится, и рыдающим, сорванным голосом скомандовал: «Господам офицерам развести роты на занятия!» Ребята, поматывая головами, оторопело косились друг на друга. Кажется, они ничего не соображали, и ротмистру Чачу пришлось дважды крикнуть «равняйсь!», прежде чем ряды приняли должный вид. Затем роту отвели к казарме, и ротмистр распорядился: «Первая секция назначается в конвой. Остальным секциям приступить к занятиям по распорядку. Р-разой-дись!»
Разошлись. Гай построил свою секцию и распределил посты. Максиму с действительным рядовым Панди достался пост в допросной камере. Гай наскоро объяснил ему обязанности: стоять смирно справа и позади арестованного, при малейшей попытке арестованного подняться со скамьи — препятствовать силой, подчиняться непосредственно командиру бригады, старший — рядовой Панди... Короче говоря, смотри на Панди.
— Я бы тебя ни за что не поставил на этот пост, не положено кандидату, но господин ротмистр приказал... Ты держи ухо востро, Мак. Что-то я господина ротмистра не пойму. То ли он тебя хочет продвинуть поскорее — очень ты ему понравился в деле; вчера на разборе операции с командирами секций он много о тебе говорил да и в приказ послал... То ли он тебя проверяет. Почему так — не знаю. Может быть, я виноват со своим рапортом, а может быть, ты сам со своими разговорчиками... — Он озабоченно оглядел Максима. — Почисти-ка еще раз сапоги, подтяни ремень и надень парадные перчатки... Да, у тебя же нет, кандидатам не положено... Ладно, беги на склад, да живее, через тридцать минут выходим.
На складе Максим застал Панди, который менял треснувшую кокарду.
— Во, капрал! — сказал Панди, обращаясь к начальнику склада и хлопая Максима по плечу. — Видал? Девятый день парень в Легионе — и уже благодарность. В камеру его со мной поставили... Небось за белыми перчатками прибежал? Выдай ему хорошие перчатки, капрал, он заслужил. Парень — герой!
Капрал недовольно заворчал, полез в стеллажи, заваленные вещевым довольствием, бросил на прилавок перед Максимом несколько пар белых нитяных перчаток и сказал пренебрежительно:
— Герой!.. Это вы здесь с очумелыми герои. Конечно, когда у него от боли все нутро потрескалось, подходи да клади его в мешок. Тут бы и мой дед героем был. Без рук, без ног...
Панди обиделся.
— Твой дед без памяти удрал бы, — сказал он, — если бы на него вот так с двумя пистолетами наскочили... Я было подумал, конец господину ротмистру...
— «Конец, конец»... — брюзжал капрал. — Вот загремите через полгода на южную границу, тогда посмотрим, кто без памяти удирать будет...
Когда они вышли из склада, Максим спросил со всевозможной почтительностью (старина Панди любил почтительность):
— Господин Панди, почему у этих выродков такие боли? И у всех сразу. Как это так?
— От страху, — ответил Панди, для важности понизив голос. — Выродки, понимаешь? Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты дураком, так и останешься. На одной храбрости далеко не уедешь... — Он помолчал. — Вот мы волнуемся, например, злимся, скажем, или испугались — у нас ничего, только вспотеем разве или, скажем, поджилки затрясутся. А у них организм ненормальный, вырожденный. Злится он на кого-нибудь, или, например, струсил, или вообще — у него сразу сильные боли в голове и по всему телу. До беспамятства. Понял? По такой особенности мы их узнаем и, конечно, задерживаем... берем... А хороши перчаточки, как раз на меня. Как ты полагаешь?
— Тесноваты они мне, господин Панди, — пожаловался Максим. — Давайте поменяемся: вы эти возьмите, а мне свои дайте, разношенные.
Панди был очень доволен. И Максим был очень доволен. И вдруг он вспомнил Фанка, как тот корчился в машине, катался от боли... и как его забрали патрульные легионеры. Только чего Фанк мог испугаться? И на кого он мог так злиться? Ведь он не волновался, спокойно вел автомобиль, посвистывал, очень ему чего-то хотелось... вероятно, курить. Впрочем, он обернулся, увидел патрульную машину... Или это было после?.. Да, он очень торопился, а фургон загораживал дорогу... Может быть, он разозлился?.. «Да нет, чего я выдумываю? Мало ли какие приступы бывают у людей... А задержали его за аварию. Интересно, однако, куда он меня вез и кто он такой? Фанка надо бы найти...»
Он начистил сапоги, привел себя в совершенный порядок перед большим зеркалом, навесил на шею автомат, снова погляделся в зеркало, и тут Гай приказал строиться.
Придирчиво всех оглядев и проверив знание обязанностей, Гай побежал в ротную канцелярию доложить. Пока его не было, легионеры сыграли в «мыло», было рассказано три истории из солдатской жизни, которые Максим не понял из-за незнания некоторых специфических выражений; потом к Максиму пристали, чтобы он рассказал, откуда он такой здоровенный — это стало уже привычной шуткой в секции, — и упросили его скатать в трубочку пару монеток на память. Затем из канцелярии вышел ротмистр Чачу в сопровождении Гая. Он тоже придирчиво всех осмотрел, отошел, сказавши Гаю: «Веди секцию, капрал», и секция направилась к штабу.
В штабе ротмистр приказал действительному рядовому Панди и кандидату Симу следовать за собой, а Гай увел остальных. Они вошли в небольшую комнату с плотно занавешенными окнами, пропахшую дымом курительных палочек. В далеком конце стоял огромный пустой стол, вокруг стола были расставлены трехногие стулья, а на стене висела потемневшая картина, изображающая старинное сражение: лошади, щетинистые панцири из дранки, обнаженные пилообразные мечи и целый лес копий, похожих на вилы. В десяти шагах от стола и правее двери Максим увидел железное дырчатое сиденье. Единственная ножка под сиденьем была привинчена к полу здоровенными болтами.
— Встать по местам! — скомандовал ротмистр, прошел вперед и сел у стола.
Панди заботливо установил Максима справа и позади железного сиденья, сам встал слева и шепотом приказал «смирно». И они с Максимом застыли. Ротмистр сидел, положив ногу на ногу, покуривал и безразлично разглядывал легионеров. Он был очень безразличен и равнодушен, однако Максим явственно чувствовал, что ротмистр самым внимательным образом наблюдает за ним, и только за ним.
Потом за спиной Панди распахнулась дверь. Панди мгновенно сделал два шага вперед, шаг вправо и поворот налево. Максим тоже дернулся было, но сообразил, что он на дороге не стоит и к нему это не относится, а потому просто выкатил глаза подальше. Все-таки было в этой взрослой игре что-то заразительное, несмотря на примитивность ее и очевидную неуместность при бедственном положении обитаемого острова.
— Смирно! — гаркнул Панди.
Ротмистр поднялся, гася сигарету в пепельнице, и легким щелканьем каблуков поприветствовал идущих к столу бригадира, какого-то незнакомого человека в штатском и бригадного адъютанта с толстой папкой под мышкой. Бригадир уселся за стол посередине, лицо у него было кислое, недовольное; он засунул палец под шитый воротник, оттянул и покрутил головой. Штатский, невзрачный маленький человечек, плохо выбритый, с вялым желтоватым лицом, неслышно двигаясь, устроился рядом. Бригадный адъютант, не садясь, раскрыл папку и принялся перебирать бумаги, передавая некоторые бригадиру.
Панди, постояв немного как бы в нерешительности, теми же четкими передвижениями вернулся на место. За столом негромко разговаривали. «Ты будешь сегодня в собрании, Чачу?» — спрашивал бригадир. «У меня дела», — ответствовал ротмистр, закуривая новую сигарету. «Напрасно. Сегодня там диспут». — «Поздно спохватились. Я уже высказался по этому поводу». — «Не лучшим образом, — мягко заметил ротмистру штатский. — Кроме того, меняются обстоятельства — меняются мнения». — «У нас в Легионе это не так», — сухо сказал ротмистр. «Право же, господа, — капризным голосом произнес бригадир. — Давайте все-таки встретимся сегодня в собрании...» — «Я слышал, свежие озерные грибы привезли», — не переставая рыться в бумагах, сообщил адъютант. «В собственном соку, а? Ротмистр!» — поддержал его штатский. «Нет, господа, — сказал ротмистр. — У меня одно мнение, и я уже высказал его. А что касается озерных грибов...» Он добавил еще что-то непонятное, вся компания расхохоталась, а ротмистр Чачу с довольным видом откинулся на спинку стула. Потом адъютант перестал рыться в бумагах, нагнулся к бригадиру и что-то шепнул ему. Бригадир покивал. Адъютант сел и произнес, обращаясь как бы к железному сиденью:
— Ноле Ренаду.
Панди толкнул дверь, высунулся и громко повторил в коридор:
— Ноле Ренаду!
В коридоре послышалось движение, и в комнату вошел пожилой, хорошо одетый, но какой-то измятый и встрепанный мужчина. Ноги у него слегка заплетались. Панди взял его за локоть и усадил на сиденье. Щелкнула, закрываясь, дверь. Мужчина громко откашлялся, уперся руками в колени и гордо поднял голову.
— Та-ак... — протянул бригадир, разглядывая бумаги, и вдруг зачастил скороговоркой: — Ноле Ренаду, пятьдесят шесть лет, домовладелец, член магистратуры... Та-ак... Член клуба «Ветеран»... (Штатский зевнул, прикрывая рот рукой, вытянул из кармана пестрый журнал, положил себе на колени и принялся перелистывать.) Задержан тогда-то там-то... при обыске изъято... та-ак... Что вы делали в доме номер восемь по улице Трубачей?
— Я владелец этого дома, — с достоинством сказал Ренаду. — Я совещался со своим управляющим.
— Документы проверены? — обратился бригадир к адъютанту.
— Так точно. Все в порядке.
— Та-ак, — сказал бригадир. — Скажите, господин Ренаду, вам знаком кто-нибудь из арестованных?
— Нет, — сказал Ренаду. Он энергично потряс головой. — Каким образом?.. Впрочем, фамилия одного из них... Кетшеф... По-моему, у меня в доме живет некий Кетшеф... А впрочем, не помню. Может быть, я ошибаюсь, а может быть, не в этом моем доме. У меня есть еще два дома, один из них...
— Виноват, — перебил штатский, не поднимая глаз от журнала. — А о чем разговаривали в камере остальные арестованные, вы не обратили внимания?
— Э-э-э... — протянул Ренаду. — Должен признаться... У вас там... э-э-э... насекомые... Так вот мы главным образом о них... Кто-то шептался в углу, но мне было, признаться, не до того... Я предпочел иметь дело с насекомыми, хе-хе!..
— Естественно, — согласился бригадир. — Ну что же, мы не извиняемся, господин Ренаду. Вот ваши документы, вы свободны... Начальник конвоя! — сказал он, повысив голос.
Панди распахнул дверь и крикнул:
— Начальник конвоя, к бригадиру!
— Ни о каких извинениях не может быть и речи, — важно произнес Ренаду. — Виноват только я, я один... И даже не я, а проклятая наследственность... Вы разрешите? — обратился он к Максиму, указывая на стол, где лежали документы.
— Сидеть, — негромко сказал Панди.
Вошел Гай. Бригадир передал ему документы, приказал вернуть господину Ренаду изъятое имущество, и господин Ренаду был отпущен.
— Раше Мусаи, — сказал адъютант железному сиденью.
— Раше Мусаи, — повторил Панди в открытую дверь.
Раше Мусаи оказался худым, совершенно замученным человеком в потрепанном домашнем халате и в одной туфле. Едва он сел, как бригадир, налившись кровью, заорал: «Скрываешься, мерзавец?» — на что Раше Мусаи принялся многословно и путано объяснять, что он совсем не скрывается, что у него больная жена и трое детей, что у него за квартиру не плачено, что его уже два раза задерживали и отпускали, что работает он на фабрике, мебельщик, что ни в чем не виноват. И Максим уже ожидал, что его выпустят, но бригадир вдруг встал и объявил, что Раше Мусаи, сорока двух лет, женатый, имеющий два задержания, приговаривается, согласно закону о профилактике, к семи годам. Примерно минуту Раше Мусаи осмысливал этот приговор, а затем разыгралась ужасная сцена. Несчастный мебельщик плакал, несвязно умолял о прощении, пытался падать на колени и продолжал кричать и плакать, пока Панди выволакивал его в коридор. И Максим снова поймал на себе взгляд ротмистра Чачу.
— Киви Попшу, — сказал адъютант.
В дверь втолкнули плечистого парня, с лицом, изуродованным какой-то кожной болезнью. Парень оказался квартирным вором-рецидивистом, был захвачен на месте преступления и держался нагло-заискивающе. Он то принимался молить господ начальников не предавать его лютой смерти, то вдруг истерически хихикал, отпускал остроты и затевал рассказывать истории из своей жизни, которые все начинались одинаково: «Захожу я в один дом...» Он никому не давал говорить. Бригадир после нескольких безуспешных попыток задать вопрос откинулся на спинку стула и возмущенно поглядел направо и налево от себя. Ротмистр Чачу сказал ровным голосом:
— Кандидат Сим, заткни ему пасть.
Максим не знал, как затыкают пасть, поэтому он просто взял Киви Попшу за плечо и встряхнул. У Киви Попшу лязгнули челюсти, он прикусил язык и замолчал. Тогда штатский, давно уже с интересом наблюдавший арестованного, произнес:
— Этого я возьму. Пригодится.
— Прекрасно! — сказал бригадир и приказал отправить Киви Попшу обратно в камеру.
Когда парня вывели, адъютант сказал:
— Вот и весь мусор. Теперь пойдет группа.
— Начинайте прямо с руководителя, — посоветовал штатский. — Как там его — Кетшеф?
Адъютант заглянул в бумаги и сказал железному сиденью:
— Гэл Кетшеф.
Ввели знакомого — человека в белом халате. Он был в наручниках и поэтому держал руки перед собой, неестественно вытянув их. Глаза у него были красные, лицо отекло. Он сел и стал смотреть на картину поверх головы бригадира.
— Ваше имя — Гэл Кетшеф? — спросил бригадир.
— Да.
— Зубной врач?
— Был.
— В каких отношениях находитесь с зубным врачом Гобби?
— Купил у него практику.
— Почему же не практикуете?
— Продал кабинет.
— Почему?
— Стесненные обстоятельства, — сказал Кетшеф.
— В каких отношениях находитесь с Орди Тадер?
— Она моя жена.
— Дети есть?
— Был. Сын.
— Где он?
— Не знаю.
— Чем занимались во время войны?
— Воевал.
— Почему решили заняться антигосударственной деятельностью?
— Потому что в истории мира не было более отвратительного государства, — сказал Кетшеф. — Потому что любил свою жену и своего ребенка. Потому что вы убили моих друзей и растлили мой народ. Потому что всегда ненавидел вас. Достаточно?
— Достаточно, — спокойно сказал бригадир. — Более чем достаточно. Скажите нам лучше, сколько вам платят хонтийцы? Или вам платит Пандея?
Человек в белом халате засмеялся. Жуткий это был смех, так мог бы смеяться мертвец.
— Кончайте эту комедию, бригадир, — сказал он. — Зачем это вам?
— Вы руководитель группы?
— Да. Был.
— Кого вы можете назвать из членов организации?
— Никого.
— Вы уверены? — спросил вдруг человек в штатском.
— Да.
— Видите ли, Кетшеф, — мягко сказал человек в штатском, — вы находитесь в крайне тяжелом положении. Мы знаем о вашей группе все. Мы даже знаем кое-что о связях вашей группы. Вы должны понимать, что эта информация получена нами от какого-то лица, и теперь только от нас зависит, какое имя будет у этого лица — Кетшеф или какое-нибудь другое...
Кетшеф молчал, опустив голову.
— Вы! — каркнул ротмистр Чачу. — Вы, бывший боевой офицер! Вы понимаете, что вам предлагают? Не жизнь, массаракш! Честь!
Кетшеф опять засмеялся, закашлялся, но ничего не сказал. Максим чувствовал, что этот человек ничего не боится. Ни смерти, ни позора. Он уже все пережил. Он уже считает себя мертвым и опозоренным... Бригадир пожал плечами, поднялся и объявил, что Гэл Кетшеф, пятидесяти лет, женатый, зубной врач, приговаривается на основании закона об охране общественного здоровья к уничтожению. Срок исполнения приговора — сорок восемь часов. Приговор может быть заменен в случае согласия приговоренного дать показания.
Когда Кетшефа вывели, бригадир с неудовольствием сказал штатскому: «Не понимаю тебя. По-моему, он разговаривал довольно охотно. Типичный болтун — по вашей же классификации. Не понимаю...» Штатский засмеялся: «Вот потому-то, дружище, ты командуешь бригадой, а я... а я — у себя». — «Все равно, — обиженно сказал бригадир. — Руководитель группы... склонен пофилософствовать... Не понимаю». — «Дружище, — сказал штатский. — Ты видел когда-нибудь философствующего покойника?» — «А, вздор...» — «А все-таки?» — «Может быть, ты видел?» — спросил бригадир. «Да, только что, — сказал штатский веско. — И заметь, не в первый раз... Я жив, он мертв — о чем нам говорить? Так, кажется, у Верблибена?..» Ротмистр Чачу вдруг поднялся, подошел вплотную к Максиму и прошипел ему в лицо снизу вверх: «Как стоишь, кандидат? Куда смотришь? Смир-рна! Глаза перед собой! Не бегать глазами!» Несколько секунд он, шумно дыша, разглядывал Максима — зрачки его бешено сужались и расширялись, — потом вернулся на свое место и закурил.
— Так, — сказал адъютант. — Остались: Орди Тадер, Мемо Грамену и еще двое, которые отказались себя назвать.
— Вот с них и начнем, — предложил штатский.
— Номер семьдесят три — тринадцать, — сказал адъютант.
Номер семьдесят три — тринадцать вошел и сел на табурет. Он тоже был в наручниках, хотя одна рука у него была искусственная, сухой, жилистый человек с болезненно толстыми, распухшими от прокусов губами.
— Ваше имя? — спросил бригадир.
— Которое? — весело спросил однорукий.
Максим даже вздрогнул: он был уверен, что однорукий будет молчать.
— У вас их много? Тогда назовите настоящее.
— Настоящее мое имя — номер семьдесят три — тринадцать.
— Та-ак... Что вы делали в квартире Кетшефа?
— Лежал в обмороке. К вашему сведению, я это очень хорошо умею. Хотите, покажу?
— Не трудитесь, — сказал человек в штатском. Он был очень зол. — Вам еще понадобится это умение.
Однорукий вдруг захохотал. Он смеялся громко, звонко, как молодой, и Максим с ужасом понял, что он смеется искренне. Люди за столом молча, словно окаменев, слушали этот смех.
— Массаракш! — сказал наконец однорукий, вытирая слезы плечом. — Ну и угроза!.. Впрочем, вы еще молодой человек... Вашу работу нужно делать по возможности сухо, казенно — за деньги. Это производит на подследственного огромное впечатление. Ужасно, когда тебя пытает не враг, а чиновник. Вот посмотрите на мою левую руку. Мне ее отпилили специалисты его императорского величества в три приема, и каждый акт сопровождался обширной перепиской... Палачи выполняли тяжелую, неблагодарную работу, им было скучно, они пилили мою руку и ругали нищенские оклады. И мне было страшно. Только очень большим усилием воли я удержался тогда от болтовни. А сейчас... Я же вижу, как вы меня ненавидите. Вы — меня, я — вас. Прекрасно! Но вы меня ненавидите меньше двадцати лет, а я вас — больше тридцати. Вы тогда еще пешком под стол ходили и мучили кошек, молодой человек...
— А-а, — сказал штатский. — Старая ворона. Я думал, вас уже всех перебили.
— И не надейтесь, — возразил однорукий. — Надо все-таки разбираться в мире, где вы живете... А то и разговаривать с вами не о чем...
— По-моему, достаточно, — сказал бригадир, обращаясь к штатскому.
Тот быстро написал что-то на журнале и дал бригадиру прочесть. Бригадир очень удивился, побарабанил пальцами по подбородку и с сомнением поглядел на штатского. Штатский улыбнулся. Тогда бригадир пожал плечами, подумал и обратился к ротмистру:
— Свидетель Чачу, как вел себя обвиняемый при аресте?
— Валялся на полу, — мрачно ответил ротмистр.
— То есть сопротивления он не оказывал... Та-ак... — Бригадир еще немного подумал, поднялся и огласил приговор: — Обвиняемый номер семьдесят три — тринадцать приговаривается к смертной казни, срок исполнения приговора не определяется, впредь до исполнения приговора обвиняемый имеет пребывать в ссылке на воспитании.
На лице ротмистра Чачу проступило презрительное недоумение, а однорукий, когда его выводили, тихонько смеялся и тряс головой, как бы говоря: «Ну и ну!»
Затем был введен номер семьдесят три — четырнадцать. Это был тот самый человек, который кричал, корчась на полу. Он был полон страха, но держался вызывающе. Прямо с порога он крикнул, что отвечать не будет и снисхождения не желает. Он действительно молчал и не ответил ни на один вопрос, даже на вопрос штатского: нет ли жалоб на дурное обращение? Кончилось тем, что бригадир посмотрел на штатского и вопросительно мыкнул. Штатский кивнул и сказал: «Да, ко мне». Он казался очень довольным.
Потом бригадир перебрал оставшиеся бумаги и сказал:
— Пойдемте, господа, поедим. Невозможно...
Суд удалился, а Максиму и Панди разрешили стоять вольно. Когда ротмистр тоже вышел, Панди возмущенно сказал:
— Видал гадов? Хуже змей, ей-богу. Главное ведь что? Не боли у них головы, ну как бы ты узнал, что они выродки? Подумать страшно, что бы тогда было...
Максим промолчал. Говорить ему не хотелось. Картина мира, еще сутки назад казавшаяся такой логичной и отчетливой, сейчас размылась, потеряла очертания. Впрочем, Панди не нуждался в репликах. Снявши, чтобы не запачкать, перчатки, он извлек из кармана кулек с жареными орешками, угостил Максима и принялся рассказывать, как он не терпит этот пост. Во-первых, страшно было заразиться от выродков. Во-вторых, некоторые из них, вроде этого однорукого, вели себя ну до того нагло, что сил нет как хотелось дать по шее. Один раз он вот так терпел-терпел, а потом и дал — чуть в кандидаты не разжаловали. Спасибо ротмистру, отстоял. Засадил только на двадцать суток и еще сорок суток без увольнения...
Максим грыз орешки, слушал вполуха и молчал. «Ненависть, — думал он. — Те ненавидят этих, эти ненавидят тех. За что? Самое отвратительное государство... Почему? Откуда он это взял?.. Растлили народ... Как? Что это может значить?.. И этот штатский... Не может быть, чтобы он намекал на пытки. Это же было давно, в средние века... Впрочем, фашизм. Да. Гитлер. Освенцим. Расовая теория, геноцид. Мировое господство. Гай — фашист? И Рада? Нет, не похоже... Господин ротмистр? Гм... Хорошо бы понять, какая существует связь между больной головой и пристрастием к неповиновению властям. Почему систему ПБЗ стремятся разрушить только выродки? И при этом даже не все выродки?»
— Господин Панди, — сказал он, — а хонтийцы — это все выродки, вы не слыхали?
Панди глубоко задумался.
— Как тебе... понимаешь... — произнес наконец он. — Мы в основном насчет выродков как городских, так и диких, которые в лесах. А что там в Хонти или, скажем, еще где, — этому, наверно, армейцев обучают. Главное, что ты должен знать, что хонтийцы есть злейшие внешние враги нашего государства. До войны они нам подчинялись, а теперь злобно мстят... Вот и все. Понял?
— Более или менее, — сказал Максим, и Панди сейчас же закатил ему выговор: в Легионе так не отвечают, в Легионе отвечают «так точно» или «никак нет», а «более или менее» есть выражение штатское, это капраловой сестренке можешь так отвечать, а здесь служба, здесь так нельзя...
Вероятно, он долго еще разглагольствовал бы, тема была благодарная, близкая его сердцу, и слушатель был внимательный, почтительный, но тут вернулись господа офицеры. Панди замолчал на полуслове, прошептал «смирно» и, совершив необходимые эволюции между столом и железной табуреткой, застыл. Максим тоже застыл.
Господа офицеры были в прекрасном настроении. Ротмистр Чачу громко и с пренебрежительным видом рассказывал, как в девяносто шестом они лепили сырое тесто прямо на раскаленную броню и пальчики облизывали. Бригадир и штатский возражали, что боевой дух боевым духом, но кухня Боевого Легиона должна быть на высоте, и чем меньше консервов, тем лучше. Адъютант, полузакрыв глаза, вдруг принялся цитировать наизусть какую-то поваренную книгу, и все замолчали и довольно долго слушали его со странным умилением на лицах. Потом адъютант захлебнулся и закашлялся, а бригадир, вздохнув, сказал:
— Да... Но надо, однако, кончать.
Адъютант, все еще кашляя, раскрыл папку, покопался в бумагах и произнес сдавленным голосом:
— Орди Тадер.
И вошла женщина, такая же белая и почти прозрачная, как и вчера, словно она все еще была в обмороке; но когда Панди, по обыкновению, протянул руку, чтобы взять ее за локоть и усадить, она резко отстранилась от него, как от гадины, и Максиму почудилось, что она сейчас ударит. Она не ударила, у нее были скованы руки, она только отчетливо произнесла:
— Не тронь, подлец! — обошла Панди и села.
Бригадир задал ей обычные вопросы. Она не ответила. Штатский напомнил ей о ребенке, о муже, и ему она тоже не ответила. Она сидела выпрямившись; Максим не видел ее лица, видел только напряженную, худую шею под растрепанными светлыми волосами. Потом она вдруг сказала спокойным низким голосом:
— Вы все отъявленные мерзавцы. Убийцы. Вы все умрете. Ты, бригадир, я тебя не знаю, я тебя вижу в первый и последний раз. Ты умрешь скверной смертью. Не от моей руки, к сожалению, но очень, очень скверной смертью. И ты, кровавый подонок. Двоих таких, как ты, я прикончила сама. Я бы сейчас убила тебя, я бы до тебя добралась, если бы не эти подлецы у меня за спиной... — Она перевела дыхание. — И ты, черномордый, пушечное мясо, ты еще попадешься к нам в руки. Но ты умрешь просто. Гэл промахнулся, но я знаю людей, которые не промахнутся...
Они не перебивали ее, они внимательно слушали. Можно было подумать, что они готовы слушать ее часами, а она вдруг поднялась и шагнула к столу, но Панди поймал ее за плечо и бросил обратно на сиденье. Тогда она плюнула изо всех сил, но плевок не долетел до стола, и она вдруг обмякла и заплакала. Некоторое время они смотрели, как она плачет. Потом бригадир встал и приговорил ее к уничтожению в сорок восемь часов, и Панди взял ее за локоть и вышвырнул за дверь, а штатский сильно потер руки, улыбнулся и сказал: «Это удача. Отличное прикрытие». А бригадир ответил ему: «Благодари ротмистра». А ротмистр Чачу сказал только: «Языки», — и все замолчали.
Потом адъютант вызвал Мемо Грамену, и с этим совсем уже не церемонились. Это был человек, который стрелял в коридоре. С ним все было ясно: при аресте он оказал вооруженное сопротивление, и ему даже не задавали вопросов. Он сидел грузный, сгорбленный, и пока бригадир зачитывал ему смертный приговор, он равнодушно глядел в потолок, нянча левой рукой правую, вывихнутые пальцы которой были обмотаны тряпкой. Максиму почудилось в нем какое-то противоестественное спокойствие, какая-то деловитая уверенность, холодное равнодушие к происходящему, но он не сумел разобраться в своих ощущениях...
Грамену не успели еще вывести, а адъютант уже с облегчением складывал бумаги в папку, бригадир затеял со штатским разговор о порядке чинопроизводства, а ротмистр Чачу подошел к Панди и Максиму и приказал им идти. В его прозрачных глазах Максим ясно увидел издевку и угрозу, но не захотел думать об этом. С каким-то отчужденным любопытством и сочувствием он думал о том человеке, которому предстоит убить женщину. Это было чудовищно, это было невозможно, но кому-то предстояло это сделать в ближайшие сорок восемь часов.
Гай переоделся в пижаму, повесил мундир в шкаф и повернулся к Максиму. Кандидат Сим сидел на своем диванчике, который Рада поставила ему в свободном углу; один сапог он стянул и держал в руке, а за другой еще не принимался. Глаза его были устремлены в стену, рот приоткрыт. Гай подкрался сбоку и щелкнул его по носу. И, как всегда, промахнулся — в последний момент Мак отдернул голову.
— О чем задумался? — игриво спросил Гай. — Горюешь, что Рады нет? Тут тебе, брат, не повезло, у нее сегодня дневная смена.
Мак слабо улыбнулся и принялся за второй сапог.
— Почему — нет? — сказал он рассеянно. — Ты меня не обманешь... — Он снова замер. — Гай, — сказал он, — ты всегда говорил, что они работают за деньги...
— Кто? Выродки?
— Да. Ты об этом часто говорил — и мне, и ребятам... Платные агенты хонтийцев... И ротмистр все время об этом твердит, каждый день одно и то же...
— Как же иначе? — сказал Гай. Он решил, что Мак опять заводит разговор об однообразии. — Ты все-таки чудачина, Мак. Откуда у нас могут появиться какие-то новые слова, если все остается по-старому? Выродки как были выродки, так и остались. Как они получали деньги от врага, так и получают. Вот в прошлом году, например, накрыли одну компанию за городом — у них целый подвал был набит денежными мешками. Откуда у честного человека могут быть такие деньги? Они не промышленники, не банкиры...
Мак аккуратно поставил сапоги у стены, встал и принялся расстегивать комбинезон.
— Гай, — сказал он, — у тебя бывает так, что говорят тебе про человека одно, а ты смотришь на этого человека и чувствуешь: не может этого быть. Ошибка. Путаница.
— Бывало, — сказал Гай, нахмурившись. — Но если ты о выродках...
— Да, именно о них. Я сегодня на них смотрел. Это люди как люди, разные, получше и похуже, смелые и трусливые, и вовсе не звери, как я думал... и как вы все считаете... Погоди, не перебивай. И не знаю я, приносят они вред или не приносят, то есть, судя по всему, приносят, но я не верю, что они куплены.
— Как это не веришь? — сказал Гай, хмурясь еще сильнее. — Ну, предположим, мне ты можешь не верить, я человек маленький. Ну, а господину ротмистру? А бригадиру?
Максим сбросил комбинезон, подошел к окну и стал смотреть на улицу, прижавшись лбом к стеклу и держась обеими руками за раму.
— А если они ошибаются? — проговорил он наконец.
— Ошибаются... — с недоумением повторил Гай, глядя ему в голую спину. — Кто ошибается? Господин бригадир? Вот чудак...
— Ну, пусть, — сказал Мак, оборачиваясь. — Мы не о нем сейчас говорим. Мы говорим о выродках. Вот ты, например... Ты ведь умрешь за свое дело?
— Умру, — сказал Гай. — И ты умрешь.
— Правильно! Умрем. Но ведь за дело умрем — не за паек легионерский и не за деньги. Дайте мне хоть тысячу миллионов ваших бумажек, не соглашусь я ради этого идти на смерть!.. Неужели ты согласишься?
— Нет, конечно, — сказал Гай. «Чудачина этот Мак, вечно что-нибудь выдумает...»
— Ну?
— Что — ну?
— Ну как же! — сказал Мак с нетерпением. — Ты за деньги не согласен умирать. Я за деньги не согласен умирать. А выродки, значит, согласны! Что за чепуха!
— Так то выродки! — сказал Гай проникновенно. — На то они и выродки! Им деньги дороже всего, у них нет ничего святого. Им ничего не стоит ребенка задушить — бывали такие случаи... Ты пойми: если человек старается уничтожить систему ПБЗ, что это может быть за человек? Это же хладнокровный убийца!
— Не знаю, не знаю, — сказал Мак. — Вот их сегодня допрашивали. Если бы они назвали сообщников, могли бы остаться живы, отделались бы каторгой... А они не назвали! Значит, сообщники им дороже, чем деньги? Дороже, чем жизнь?
— Это еще неизвестно, — возразил Гай. — Они по закону все приговорены к смерти, без всякого суда, ты же видел, как их судят.
Он смотрел на Мака и видел, что друг его колеблется, растерян. Доброе у него сердце, зелен еще, не понимает, что жестокость с врагом неизбежна. Трахнуть бы кулаком по столу да прикрикнуть, чтобы молчал, не болтал зря, не молол бы глупостей, а слушал старших, пока не научился разбираться сам. Но ведь Мак не дубина какая-нибудь необразованная, ему нужно только объяснить как следует, и он поймет...
— Нет! — упрямо сказал Мак. — Ненавидеть за деньги нельзя. А они ненавидят... так ненавидят нас, я даже и не знал, что люди могут так ненавидеть. Ты их ненавидишь меньше, чем они тебя. И вот я хотел бы знать: за что?
— Вот послушай, — сказал Гай. — Я тебе еще раз объясню. Во-первых, они выродки. Они вообще ненавидят всех нормальных людей. Они по природе злобны, как крысы. А потом, мы им мешаем! Они хотели бы сделать свое дело, получить денежки и жить себе припеваючи. А мы им говорим: стоп! Руки за голову! Что ж они, любить нас должны за это?
— Если они все злобны, как крысы, почему же тогда этот... домовладелец... не злобный? Почему его отпустили, если все они подкуплены?
Гай засмеялся.
— Домовладелец — трус. Таких тоже хватает. Ненавидят нас, но боятся. Таким выгоднее жить с нами в дружбе... А потом, он домовладелец, богатый человек, его так просто не подкупишь. Это тебе не зубной врач... Смешной ты, Мак, как ребенок! Люди ведь не бывают одинаковые, и выродки не бывают одинаковые...
— Это я уже знаю, — нетерпеливо прервал Мак. — Но вот, кстати, о зубном враче. То, что он неподкупен, за это я головой ручаюсь. Я не могу тебе это доказать, я это чувствую. Это очень смелый и хороший человек...
— Выродок!
— Хорошо. Это смелый и хороший выродок. Я видел его библиотеку. Это очень знающий человек. Он знает в тысячу раз больше, чем ты или ротмистр... Почему он против нас? Если все так, как ты говоришь, почему он не знает этого — образованный, культурный человек? Почему он на пороге смерти говорит нам в лицо, что он за народ и против нас?
— Образованный выродок — это выродок в квадрате, — сказал Гай поучающе. — Как выродок он нас ненавидит. А образование помогает ему эту ненависть обосновать и распространить. Образование — это, дружок, тоже не всегда благо. Это как автомат — смотря в чьих руках...
— Образование — всегда благо, — сказал Мак.
— Ну уж нет. Я бы предпочел, чтобы хонтийцы все были необразованные. Тогда бы мы, по крайней мере, могли жить как люди, а не ждать все время смертельного удара. Мы бы их живо усмирили.
— Да, — сказал Мак с непонятной интонацией. — Усмирять мы умеем. Жестокости нам не занимать.
— И опять ты как ребенок. Мы бы и рады уговорами обойтись, и дешевле бы это было, и без кровопролития. А что прикажешь? Если их никак не переубедить...
— Значит, они убеждены? — прервал его Мак. — Значит, убеждены? А если знающий человек убежден, что он прав, то при чем тут хонтийские деньги...
Гаю надоело. Он хотел уже, как к последнему средству, прибегнуть к Кодексу Творцов и покончить с этим бесконечным глупым спором, но тут Мак перебил сам себя, махнул рукой и крикнул:
— Рада! Хватит спать! Легионеры проголодались и скучают по женскому обществу!
К огромному изумлению Гая, из-за ширмы послышался голос Рады:
— А я давно не сплю. Вы тут раскричались, господа легионеры, как у себя на плацу.
— Ты почему дома? — гаркнул Гай.
Рада, запахивая халатик, вышла из-за ширмы.
— Меня рассчитали, — объявила она. — Мамаша Тэй закрыла свое заведение, наследство получила и собирается в деревню. Но она меня уже рекомендовала в хорошее место... Мак, почему у тебя все разбросано? Прибери в шкаф. Мальчики, я же просила вас не ходить в комнату в сапогах! Где твои сапоги, Гай?.. Накрывайте на стол, сейчас будем обедать... Мак, ты похудел. Что они там с тобой делают?
— Давай, давай! — сказал Гай. — Неси обед...
Она показала ему язык и вышла. Гай взглянул на Мака. Мак смотрел ей вслед со своим обычным добрым выражением.
— Что, хороша девочка? — спросил Гай и испугался: лицо Мака вдруг окаменело. — Ты что?
— Слушай, — сказал Мак. — Все можно. Даже пытать, наверное, можно. Вам виднее. Но женщин расстреливать... женщин мучать... — Он схватил свои сапоги и пошел из комнаты.
Гай крякнул, сильно почесал обеими руками затылок и принялся накрывать на стол. От всего этого разговора у него остался неприятный осадок. Какая-то раздвоенность. Конечно, Мак еще зелен и не от мира сего. Но как-то опять у него все удивительно получилось. Логик он, вот что, логик замечательный. Вот ведь сейчас — чепуху же порол, но как у него все логично выстроилось!
Гай вынужден был признаться, что, если бы не этот разговор, сам он вряд ли дошел бы до очень простой, в сущности, мысли: главное в выродках то, что они выродки. Отними у них это свойство, и все остальные обвинения против них превращаются в чепуху. Да, все дело в том, что они выродки и ненавидят все нормальное. Этого достаточно, и можно обойтись без хонтийского золота... А хонтийцы что — тоже, значит, выродки? Этого нам не говорили. А если они не выродки, тогда наши выродки должны их ненавидеть, как и нас... А, массаракш! Будь она проклята, эта логика!..
Когда Мак вернулся, Гай набросился на него:
— Откуда ты знал, что Рада дома?
— Ну как — откуда? Это и так было ясно...
— А если тебе было ясно, так почему ты меня не предупредил? И почему ты, массаракш, распускаешь язык при посторонних? Тридцать три раза, массаракш...
Мак тоже разозлился:
— Это кто здесь посторонний, массаракш? Рада? Да вы все со своими ротмистрами для меня более посторонние, чем Рада!
— Массаракш! Что в уставе сказано о служебной тайне?
— Массаракш и массаракш! Что ты ко мне пристал? Я же не знал, что ты не знаешь, что она дома! Я думал, ты меня разыгрываешь! И потом, о каких таких служебных тайнах мы тут говорили?
— Все, что касается службы...
— Провалитесь вы со своей службой, которую нужно скрывать от родной сестры! И вообще от кого бы то ни было, массаракш! Поразвели секретов в каждом углу, повернуться негде, рта не раскрыть!
— И ты же еще на меня орешь! Я тебя, дурака, учу, а ты на меня орешь!..
Но Мак уже перестал злиться. Он вдруг мгновенно оказался рядом; Гай не успел пошевелиться — сильные руки сдавили ему бока, комната завертелась перед глазами, и потолок стремительно надвинулся. Гай придушенно ахнул, а Мак, бережно неся его над головой в вытянутых руках, подошел к окну и сказал:
— Ну, куда тебя девать с твоими тайнами? Хочешь за окно?
— Что за дурацкие шутки, массаракш! — закричал Гай, судорожно размахивая руками в поисках опоры.
— Не хочешь за окно? Ну ладно, оставайся...
Гая поднесли к ширме и вывалили на кровать Рады. Он сел, поправил задравшуюся пижаму и проворчал:
— Зверь здоровенный...
Он тоже больше не сердился. Да и не на кого было сердиться, разве что на выродков...
Они принялись накрывать на стол. Потом пришла Рада с кастрюлей супа, а за нею, дядюшка Каан со своей заветной флягой, которая одна только, по его заверениям, спасала его от простуды и других старческих болезней. Уселись, принялись за суп. Дядюшка выпил рюмку, потянул носом воздух и принялся рассказывать про своего врага, коллегу Шапшу, который опять написал статью о назначении такой-то кости у такой-то древней ящерицы, причем вся статья была построена на глупости, ничего, кроме глупости, не содержала и рассчитана была на глупцов...
У дядюшки Каана все были глупцы. Коллеги по кафедре — глупцы, одни старательные, другие обленившиеся. Ассистенты — болваны от рождения, коим место в горах пасти скотину, да и то, говоря по правде, неизвестно, справятся ли. Что же касается студентов, то молодежь сейчас вообще словно подменили, а в студенты к тому же идет самая отборная дурость, которую рачительный предприниматель не подпустил к станкам, а знающий командир отказался принять в солдаты. Так что судьба науки об ископаемых животных предрешена... Гай не слишком об этом сожалел, бог с ними, ископаемыми, не до них сейчас, и вообще непонятно, зачем и кому эта наука может когда-либо понадобиться. Но Рада дядюшку очень любила и всегда ужасалась вместе с ним по поводу глупости коллеги Шапшу и горевала, что университетское начальство не выделяет средств, необходимых для экспедиций...
Сегодня, впрочем, разговор пошел о другом. Рада, которая, массаракш, все-таки все слышала у себя за ширмой, спросила вдруг дядю, чем выродки отличаются от обычных людей. Гай грозно посмотрел на Мака и предложил Раде не портить родным и близким аппетита, а читать лучше литературу. Однако дядюшка заявил, что эта литература написана для глупейших из дураков; что в Департаменте общественного просвещения воображают, будто все такие же невежды, как они сами; что вопрос о выродках совсем не так прост и совсем не так мелок, как его пытаются изобразить для создания определенного общественного мнения, и что либо, мы будем здесь как культурные люди, либо как наши бравые, но — увы! — малообразованные офицеры в казармах. Мак предложил ради разнообразия побыть как культурные люди. Дядюшка выпил еще рюмку и принялся излагать имеющую сейчас хождение в научных кругах теорию о том, что выродки есть не что иное, как новый биологический вид, появившийся на лице Мира в результате радиоактивного облучения.
— Выродки несомненно опасны, — говорил дядюшка, подняв палец. — Но они гораздо более опасны, чем ты думаешь, Гай. Они борются за место в этом мире, за существование своего вида, и эта борьба не зависит ни от каких социальных условий, а кончится она только тогда, когда уйдет с арены биологической истории либо последний человек, либо последний выродок-мутант. Хонтийское золото — вздор! — орал разбушевавшийся профессор. — Диверсии против системы ПБЗ — чепуха! Смотрите за Голубую Змею, господа! За Голубую Змею! Вот откуда идет настоящая опасность. Вот откуда, размножившись, двинутся колонны человекоподобных чудовищ, чтобы растоптать нас и превратить в ничто! Ты — слепец, Гай. И командиры твои — слепцы! Спасти цивилизацию! Не один какой-нибудь народ, не просто матерей и детей наших, но все человечество целиком!..
Гай разозлился и сказал, что судьбы человечества его занимают мало. Он в этот кабинетный бред не верит. И если бы ему сказали, что есть возможность натравить диких выродков на Хонти, минуя нашу страну, он бы этому всю жизнь посвятил. Профессор снова взбеленился и опять назвал его слепым слепцом. Он сказал, что Огненосные Творцы — настоящие мученики: им приходится вести поистине неравную борьбу, если в их распоряжении только такие жалкие, слепые исполнители, как Гай. Гай решил с ним не спорить. Дядюшка ничего не смыслил в политике и сам был в известной степени ископаемым животным. Мак попытался вмешаться и начал рассказывать про однорукого выродка, но Гай эти поползновения разгласить служебную тайну пресек и велел Раде подавать второе. Маку же он приказал включить телевизор. Слишком много разговоров сегодня, сказал он. Дайте немного отдохнуть солдату, прибывшему в увольнение...
Однако воображение его было возбуждено, по телевизору показывали какую-то глупость, и Гай, не удержавшись, принялся рассказывать о диких выродках. Он о них кое-что знал — слава богу, три года воевал с ними, а не отсиживался в тылу, как некоторые философы... Рада обиделась за старика и обозвала Гая хвастуном, но дядюшка и Мак почему-то приняли его сторону и стали просить продолжать. Гай объявил, что не скажет больше ни слова. Во-первых, он в самом деле был несколько обижен, а во-вторых, пошарив в памяти, он не смог найти там ничего, что опровергало бы измышления старого пьяницы. Потом его осенило — он вспомнил, что рассказывал однажды старшина сто четырнадцатой группы смертников Зеф, и с удовольствием преподнес эту теорию дядюшке. Рыжая морда Зеф говорил, что выродки потому проявляют всё усиливающуюся активность, что на них самих наступает радиоактивная пустыня и деваться этим беднягам некуда, кроме как пытаться с боем пробиться в районы, свободные от радиоактивности.
— Кто это тебе рассказал? — спросил дядя с презрением. — Какому деревянному дураку могла прийти в голову столь примитивная мысль?
Гай посмотрел на него со злорадством и веско ответил:
— Таково мнение некоего Аллу Зефа, крупнейшего нашего медика-психиатра.
— Где это ты с ним встречался? — еще более презрительно осведомился дядюшка. — Уж не на ротной ли кухне?
Гай сгоряча хотел было сказать, где он с ним встречался, но прикусил язык, придал своему лицу значительное выражение и с подчеркнутым вниманием стал слушать телевизионного диктора, сообщающего прогноз погоды.
И тут в разговор, массаракш, опять влез этот Мак.
— Я готов признать, — объявил он, — в этих чудовищах на юге некую новую породу людей, но что общего между ними и домохозяином Ренаду, например? Ренаду тоже считается выродком, но он явно относится не к новой, а, прямо скажем, к очень старой породе людей... Гай об этом никогда не думал, и поэтому он был очень рад, что отвечать на этот вопрос бросился дядюшка. Обозвав Мака развесистым пнем, дядюшка принялся объяснять, что скрытые выродки, они же выродки городские, есть не что иное, как уцелевшие в борьбе за существование остатки нового вида, почти начисто уничтоженного в наших центральных районах еще в колыбели... Он еще помнит эти ужасы: их убивали прямо при рождении, иногда вместе с матерями... Уцелели только те, у которых новые видовые признаки ничем наружно не проявляются... Дядя Каан хватил пятую рюмку, разошелся и развил перед слушателями четкий план поголовного тотального медицинского обследования населения, которым неизбежно придется заняться рано или поздно, и лучше рано, чем поздно. И никаких исключений! Никакого попустительства! Сорная трава должна быть выполота без пощады...
На этом обед кончился. Рада принялась мыть посуду, дядя, не дождавшись никаких возражений, победно всех оглядел, закупорил флягу и понес ее к себе, пробормотав, что идет писать ответ этому дураку Шапшу. При этом он зачем-то захватил с собой и рюмку. Гай посмотрел ему вслед — на ветхий его пиджачок, на старые, залатанные брюки, на штопаные носки и стоптанные туфли — и пожалел старика. Проклятая война! Раньше дяде принадлежала вся эта квартира, у него была прислуга, жена, был сын, была роскошная посуда, много денег, даже поместье где-то было, а теперь — пыльный, забитый книгами кабинет, он же спальня, он же все прочее, поношенная одежда, одиночество, забвение... Да. Он пододвинул единственное кресло к телевизору, вытянулся и стал сонно смотреть на экран. Мак некоторое время сидел рядом, потом мгновенно и бесшумно, как он один умел это делать, исчез и обнаружился уже в другом углу. Он покопался в небольшой библиотечке Гая, выбрал какой-то учебник и принялся листать его стоя, прислонившись плечом к платяному шкафу. Рада прибрала со стола, села рядом с Гаем и стала вязать, изредка поглядывая на экран. В доме воцарились покой, мир, удовлетворение. Гай задремал.
Ему приснилась чепуха: будто он поймал двух выродков в каком-то железном тоннеле, начал снимать с них допрос и вдруг обнаружил, что один из выродков — Мак, а другой выродок, мягко и добро улыбаясь, говорил Гаю: «Ты все время ошибался, твое место с нами, а ротмистр — просто профессиональный убийца, без всякого патриотизма, без настоящей верности, ему просто нравится убивать, как тебе нравится суп из креветок...» И Гай вдруг ощутил душное сомнение, почувствовал, что вот сейчас поймет все до конца, еще секунда — и не останется больше ни одного вопроса. Это непривычное состояние было настолько мучительно, что сердце остановилось и он проснулся.
Мак и Рада тихонько говорили о какой-то ерунде — о морских купаниях, о песке, о ракушках... Он их не слушал. Ему в голову вдруг пришла мысль: неужели он способен на какие-то сомнения, колебания, на неуверенность? Но ведь сомневался же он во сне... Значит ли это, что он и наяву в такой же ситуации засомневался бы? Некоторое время он старался во всех деталях припомнить свой сон, но сон ускользал, как мокрое мыло из мокрых рук, расплывался и в конце концов стал совсем неправдоподобным, и Гай с облегчением подумал, что все это чушь. И когда Рада, заметив, что он не спит, спросила, что, по его мнению, лучше — море или река, он ответил по-солдатски, в стиле старины Дога: «Лучше всего хорошая баня».
По телевизору передавали «узоры». Было скучно. Гай предложил выпить пива. Рада сходила на кухню и принесла из холодильника две бутылки. За пивом говорили о том о сем, и как-то между делом выяснилось, что Мак за последние полчаса одолел учебник по геополитике. Рада восхитилась. Гай не поверил. Он сказал, что за это время можно пролистать учебник, может быть, даже прочитать, но только механически, без всякого понимания. Мак потребовал экзамена. Гай потребовал учебник. Было заключено пари: проигравшему предстояло пойти к дядюшке Каану и объявить ему, что коллега Шапшу — умный человек и прекрасный ученый. Гай раскрыл учебник наугад, нашел в конце главы контрольные вопросы и спросил: «В чем заключается нравственное благородство экспансии нашего государства на север?» Мак ответил своими словами, но очень близко к тексту и добавил, что, на его взгляд, нравственное благородство здесь ни при чем, все дело, как он понимает, в агрессивности режимов Хонти и Пандеи. Гай почесал обеими руками затылок, лизнув палец, перекинул несколько страниц и спросил: «Каков средний урожай злаков в северо-западных районах?» Мак засмеялся и сказал, что данных о северо-западных районах не имеется. Поймать его не удалось; очень обрадованная Рада показала Гаю язык. «А каково удельное демографическое давление в устье Голубой Змеи?» — спросил Гай. Мак назвал цифру, назвал погрешность и не преминул добавить, что понятие демографического давления кажется ему смутным. Во всяком случае, он не понимает, зачем оно введено. Гай принялся было ему объяснять, что демографическое давление есть мера агрессивности, но тут вмешалась Рада. Она сказала, что Гай крутит и хочет уклониться от дальнейшего экзамена, потому что понимает, что дела его плохи.
Гаю страшно не хотелось идти к дяде Каану, и он, чтобы затянуть время, вступил в пререкания. Мак некоторое время слушал, а потом вдруг ни с того ни с сего заявил, что Раде не следует ни в коем случае снова поступать в официантки; ей надо учиться, сказал он. Гай, обрадованный переменой темы, вскричал, что он уже тысячу раз говорил ей то же самое и уже предлагал ей похлопотать о приеме в женский корпус Легиона, где из нее сделают по-настоящему полезного человека. Однако нового разговора не получилось. Мак только покачал голевой, а Рада, как и раньше, отозвалась о женском корпусе в самых непочтительных выражениях.
Гай не стал спорить. Он бросил учебник, полез в шкаф, достал гитару и принялся ее настраивать. Рада и Максим сейчас же отодвинули в сторону стол и встали друг перед другом, готовые оторвать «да-да, нет-нет». Гай выдал им «да-да, нет-нет» с подстуком и перезвоном. Он смотрел, как они танцуют, и думал, что пара подобралась отменная, что жить вот только негде, и если они поженятся, то придется ему совсем перебраться в казарму. Ну что же, многие капралы живут в казармах... Впрочем, по Маку не видно, чтобы он собирался жениться. Он относится к Раде скорее как к другу, только более нежно и почтительно, а Рада, надо понимать, втюрилась. Ишь как глаза блестят! Да и как не втюриться в такого парня! Даже мадам Го, старая ведь карга, за шестьдесят, а туда же — как Мак идет по коридору, так она откроет дверь, выставит свой череп и осклабляется. А впрочем, черт его знает, Мака весь дом любит, и ребята его любят, только вот господин ротмистр к нему странно относится... но и он не отрицает, что парень — огонь.
Пара утанцевалась до упаду. Мак отобрал у Гая гитару, перестроил ее на свой чудной манер и начал петь странные свои горские песни. Тысячи песен, и ни одной знакомой. И каждый раз что-нибудь новое. И вот что странно: ни одного слова не понять, а слушаешь, и — то плакать хочется, то смеешься без удержу... Некоторые песни Рада уже запомнила и теперь пыталась подпевать. Особенно ей нравилась смешная песня (Мак перевел) про девушку, которая сидит на горе и ждет своего дружка, а дружок никак не может до нее добраться — то одно ему мешает, то другое... За гитарой и пением они не услышали звонка в парадную дверь. Раздался стук, и в комнату ввалился вестовой господина ротмистра Чачу.
— Господин капрал, разрешите обратиться! — рявкнул он, косясь на Раду.
Мак перестал играть. Гай сказал:
— Обращайтесь.
— Господин ротмистр приказали вам и кандидату Симу срочно явиться в канцелярию роты. Машина внизу.
Гай вскочил.
— Ступайте, — сказал он. — Подождите в машине, мы сейчас спустимся. Одевайся, быстро, — сказал он Максиму.
Рада взяла гитару на руки, как ребенка, и встала у окна, отвернувшись.
Гай и Мак торопливо одевались.
— Как ты думаешь — зачем? — спросил Мак.
— Откуда мне знать? — проворчал Гай. — Может быть, учебная тревога будет...
— Не нравится мне это, — сказал Мак.
Гай посмотрел на него и на всякий случай включил радио. По радио передавали ежедневные «праздные разговоры деловитых женщин».
Они оделись, затянули ремни, и Гай сказал:
— Рада, ну, мы пошли.
— Идите, — сказала Рада не оборачиваясь.
— Пошли, Мак, — сказал Гай, нахлобучивая берет.
— Позвоните, — сказала Рада. — Если задержитесь, обязательно позвоните... — Она так и не обернулась.
Вестовой предупредительно распахнул перед Гаем дверцу. Сели, поехали. Видимо, дело было срочное: шофер гнал, включив сирену на полную громкость. Гай с некоторым сожалением подумал, что вот пропал вечерок, редкий, хороший вечерок, уютный, домашний, беззаботный. Но такова жизнь легионера. Сейчас прикажут, ты возьмешь автомат и будешь стрелять — сразу после бутылки пива, после уютной пижамы, после песенок под гитару. Такова прекрасная жизнь легионера, лучшая из всех возможных. И не нужно нам ни подружек, ни жен, и правильно, Мак не хочет жениться на Раде, хотя и жалко сестренку, конечно... Ничего, подождет. Любит — так подождет...
Машина ворвалась на плац и затормозила у входа в казарму. Гай выскочил, взбежал по ступенькам. Перед дверью канцелярии он остановился, проверил положение берета, пряжки, быстро оглядел Мака, застегнул ему пуговицу на воротнике — массаракш, вечно она у него расстегнута! — и постучал.
— Войдите! — каркнул знакомый голос.
Гай вошел и доложился. Господин ротмистр Чачу в суконной накидке и фуражке сидел за своим столом. Он курил и пил кофе; снарядная гильза перед ним была полна окурками. Сбоку на столе лежали два автомата. Господин ротмистр медленно поднялся, тяжело уперся в стол обеими руками и, уставясь на Мака, заговорил:
— Кандидат Сим! Ты проявил себя незаурядным бойцом и верным боевым товарищем. Я ходатайствовал перед командиром бригады о досрочном производстве тебя в достоинство действительного рядового Боевого Легиона. Экзамен огнем ты выдержал вполне успешно. Остается последний экзамен — экзамен кровью...
У Гая радостно подпрыгнуло сердце. Он не ожидал, что это случится так скоро. «Молодец ротмистр! Вот что значит старый вояка! Я-то, дурак, вообразил, будто он копает под Мака...» Гай посмотрел на Мака, и радость его несколько поубавилась. Лицо Мака было совершенно деревянным, глаза выкачены, все по уставу, но именно сейчас можно было бы не придерживаться так строго уставных правил.
— Я вручаю тебе приказ, кандидат Сим, — продолжал господин ротмистр, протягивая Маку лист бумаги. — Это первый письменный приказ, адресованный тебе лично. Надеюсь, не последний. Прочти и распишись.
Мак взял приказ и пробежал его глазами. У Гая снова ёкнуло сердце, но уже не от радости, а от какого-то тяжелого предчувствия. Лицо Мака оставалось по-прежнему неподвижным, и все было как будто в порядке, но он чуть-чуть помедлил, прежде чем взял перо и расписался. Господин ротмистр осмотрел подпись и положил листок в планшет.
— Капрал Гаал, — сказал он, беря со стола запечатанный конверт. — Ступай в караульное помещение и приведи приговоренных. Возьми автомат... нет, вот этот, с краю.
Гай взял конверт, повесил автомат на плечо, повернулся кругом и направился к двери. Он еще услышал, как господин ротмистр сказал Маку:
— Ничего, кандидат, не трусь. Это страшно только по первому разу...
Гай бегом направился через плац к зданию бригадной тюрьмы, вручил начальнику караула конверт, расписался где нужно, сам получил необходимые расписки, и ему вывели приговоренных. Это были давешние заговорщики — толстый дядька, которому Мак вывернул пальцы, и женщина. Массаракш, этого только не хватало! Женщина — это совсем лишнее... Это не для Мака... Он вывел арестованных на плац и погнал их к казарме. Мужчина плелся нога за ногу и все баюкал свою руку, а женщина шла прямая как жердь, засунув руки глубоко в карманы жакетки, и, казалось, ничего не видела и не слышала. Массаракш, а почему, собственно, не для Мака? Какого дьявола! Эта баба такая же гадина, как и мужик. Почему мы должны давать ей какие-то льготы? И почему это, массаракш, надо предоставлять какие-то льготы кандидату Симу? Пусть привыкает, массаракш и массаракш!..
Господин ротмистр и Мак были уже в машине. Господин ротмистр — за рулем. Мак с автоматом между колен — на заднем сиденье. Он открыл дверцу, и приговоренные залезли внутрь. «На пол!» — скомандовал Гай. Они послушно сели на железный пол, а Гай — на сиденье напротив Мака. Он попытался поймать его взгляд, но Мак глядел на приговоренных. Нет, он глядел на эту бабу, которая съежилась на полу, обхватив колени. Господин ротмистр, не оборачиваясь, сказал: «Готовы?» — и машина тронулась.
По дороге не разговаривали. Господин ротмистр гнал машину на безумной скорости — видимо, хотел все кончить до сумерек, да и чего медлить... Мак все время глядел на женщину, словно ловил ее взгляд, а Гай все ловил взгляд Мака. Приговоренные, цепляясь друг за друга, ерзали по полу; толстяк попытался было заговорить с бабой, но Гай прикрикнул на него. Машина выскочила за город, миновала южную заставу и сразу же свернула на заброшенный проселок, знакомый, очень знакомый проселок, ведущий к Розовым Пещерам. Машина подпрыгивала всеми четырьмя колесами, держаться было неудобно. Мак не желал поднимать глаз, а тут еще эти полупокойники все время хватались за колени, спасаясь от немилосердной тряски. Гай наконец не вытерпел и треснул толстого гада сапогом под ребра, но это не помогло — тот все равно продолжал хвататься. Господин ротмистр еще раз повернул, резко затормозил, и машина медленно, осторожно съехала в карьер. Господин ротмистр выключил двигатель и скомандовал: «Выходи!»
Было уже около восемнадцати часов, в карьере собирался легкий вечерний туман, выветрившиеся каменные стены отсвечивали розовым. Когда-то здесь добывали мрамор. А кому он сейчас нужен, этот мрамор?..
Дело подходило к развязке. Мак по-прежнему держался, как идеальный солдат: ни одного лишнего движения, лицо равнодушно-деревянное, глаза в ожидании приказа устремлены на начальство. Толстяк вел себя хорошо, с достоинством. С ним хлопот, по-видимому, не будет. А вот баба под конец расклеилась. Она судорожно стискивала кулаки, прижимала их к груди и снова опускала, и Гай решил, что будет истерика, но волочить ее на руках к месту казни все-таки, кажется, не придется. Господин ротмистр закурил, посмотрел на небо и сказал Маку:
— Веди их по этой тропинке. Дойдешь до пещер — сам увидишь, где их ставить. Когда закончишь, обязательно проверь и при необходимости добей контрольным выстрелом. Что такое контрольный выстрел, знаешь?
— Так точно, — произнес Мак деревянным голосом.
— Врешь, не знаешь. Это — в голову. Действуй, кандидат. Сюда ты вернешься уже действительным рядовым.
Женщина вдруг сказала:
— Если среди вас есть хоть один человек... сообщите моей матери... Поселок Утки, дом два... это рядом... Ее зовут...
— Не унижайся, — басом произнес грузный.
— Ее зовут Илли Тадер...
— Не унижайся, — повторил грузный, повысив голос, и господин ротмистр, не размахиваясь, ткнул его кулаком в лицо. Грузный замолчал, схватившись за щеку, и с ненавистью посмотрел на господина ротмистра.
— Действуй, кандидат, — повторил господин ротмистр.
Мак повернулся к приговоренным и сделал движение автоматом. Приговоренные пошли по тропинке. Женщина обернулась и еще раз крикнула:
— Поселок Утки, дом два, Илли Тадер!
Мак, выставив перед собой автомат, медленно шел за ними. Господин ротмистр распахнул дверцу, боком сел за руль, вытянул ноги и сказал:
— Ну вот, четверть часика подождем.
— Так точно, господин ротмистр, — машинально ответил Гай.
Он смотрел вслед Маку, смотрел до тех пор, пока вся группа не скрылась за розоватым выступом. «На обратном пути нужно будет купить бутылку, — подумал он. — Пусть напьется. Говорят, это помогает».
— Можешь курить, капрал, — сказал господин ротмистр.
— Благодарю вас, господин ротмистр, я не курю.
Господин ротмистр далеко сплюнул сквозь зубы.
— Не боишься разочароваться в своем приятеле?
— Никак нет... — нерешительно сказал Гай. — Хотя, с вашего позволения, мне очень жаль, что ему досталась женщина. Он горец, а у них там...
— Он такой же горец, как мы с тобой, — сказал господин ротмистр. — И дело здесь не в женщинах... Впрочем, посмотрим. Чем вы занимались, когда вас вызвали?
— Пели хором, господин ротмистр.
— И что же вы пели?
— Горские песни, господин ротмистр. Он знает очень много песен.
Господин ротмистр вышел из машины и принялся прохаживаться взад-вперед по тропинке. Больше он не разговаривал, а минут через десять принялся насвистывать «Марш». Гай все ждал выстрелов, но выстрелов не было, и он начал беспокоиться. Убежать от Мака немыслимо. Обезоружить его — еще более немыслимо. Но тогда почему он не стреляет? Может быть, он повел их дальше обычного места?.. На обычном месте слишком сильно пахнет, божедомы зарывают неглубоко, а у Мака слишком сильное обоняние... Он из одной своей брезгливости лишних километров пять пройти способен...
— Н-ну, так... — сказал господин ротмистр, останавливаясь. — Вот и все, капрал Гаал. Боюсь, что мы не дождемся твоего дружка. И боюсь, что тебя сегодня в последний раз называют капралом.
Гай с изумлением посмотрел на него. Господин ротмистр ухмылялся.
— Ну, что смотришь? Что ты таращишься, как свинья на ветчину? Твой приятель бежал, дезертировал, он трус и изменник! Понятно, рядовой Гаал?
Гай был поражен. И не столько словами господина ротмистра, сколько его тоном. Господин ротмистр был в восторге. Господин ротмистр торжествовал. У господина ротмистра был такой вид, словно он выиграл крупное пари. Гай машинально поглядел в глубину карьера и вдруг увидел Мака. Мак возвращался один, автомат он нес в руке за ремень.
 Господин ротмистр вытащил пистолет. |
— Массаракш! — прохрипел господин ротмистр. Он тоже увидел Мака, и вид у него сделался обалделый.
Больше они не говорили, они только смотрели, как Мак неторопливо приближается к ним, легко шагая по каменному крошеву, на его спокойное, доброе лицо со странными глазами, и в голове у Гая царила сумятица: выстрелов все-таки не было... Неужели он задушил их... или забил прикладом... он, Мак, женщину? Да нет, чепуха... Но выстрелов ведь не было...
В пяти шагах от них Мак остановился и, глядя господину ротмистру в лицо, швырнул автомат ему под ноги.
— Прощайте, господин ротмистр, — сказал он. — Тех несчастных я отпустил и теперь хочу уйти сам. Вот ваше оружие, вот одежда... — Он повернулся к Гаю и, расстегивая ремень, сказал ему: — Гай, это нечистое дело. Они нас обманули, Гай...
Он стянул с себя сапоги и комбинезон, свернул все в узел и остался таким, каким Гай увидел его впервые на южной границе — почти голым, в одних серебристых трусах и теперь даже без обуви. Он подошел к машине и положил узел на радиатор. Гай ужаснулся. Он посмотрел на господина ротмистра и ужаснулся еще больше.
— Господин ротмистр! — закричал он. — Не надо! Он сошел с ума! Он опять...
— Кандидат Сим! — каркнул господин ротмистр, держа руку на кобуре. — Немедленно садитесь в машину! Вы арестованы.
— Нет, — сказал Мак. — Это вам только кажется. Я свободен. Я пришел за Гаем. Гай, пошли! Они тебя надули. Они — грязные люди. Раньше я сомневался, теперь я уверен. Пошли.
Гай замотал головой. Он хотел что-то сказать, что-то объяснить, но не было времени и не было слов. Господин ротмистр вытащил пистолет.
— Кандидат Сим! В машину! — каркнул он.
— Ты идешь? — спросил Мак.
Гай снова замотал головой. Он смотрел на пистолет в руке господина ротмистра, и думал только об одном, и знал только одно: Мака сейчас убьют. И он не понимал, что надо делать.
— Ладно, — сказал Мак. — Я тебя найду. Я всё узнаю и найду тебя. Тебе здесь не место... Поцелуй Раду.
Он повернулся и пошел, так же легко ступая по каменному крошеву босыми ногами, как и в сапогах, а Гай, трясясь словно в лихорадке, немо смотрел на его широкую треугольную спину и ждал выстрела и черной дырки под левой лопаткой.
— Кандидат Сим, — сказал господин ротмистр, не повышая голоса. — Приказываю вернуться. Буду стрелять.
Мак остановился и снова повернулся к нему.
— Стрелять? — сказал он. — В меня? За что? Впрочем, это неважно... Дайте сюда пистолет.
Господин ротмистр, держа пистолет у бедра, навел дуло на Мака.
— Я считаю до трех, — сказал он. — Садись в машину, кандидат. Раз!
— А ну, дайте сюда пистолет, — сказал Мак, протягивая руку, и направляясь к господину ротмистру.
— Два! — сказал господин ротмистр.
— Не надо! — крикнул Гай.
Господин ротмистр выстрелил. Мак был уже близко. Гай видел, как пуля попала ему в плечо и как он отшатнулся, словно налетел на препятствие.
— Глупец! — сказал Мак. — Дайте сюда оружие, злобный глупец!
Он не остановился, он все шел на господина ротмистра, протянув руку за оружием, и из дырки в плече вдруг толчком выплеснулась кровь. А господин ротмистр, издавши странный, скрипящий звук, попятился и очень быстро выстрелил три раза подряд прямо в широкую коричневую грудь. Мака отбросило, он упал на спину, сейчас же вскочил, снова упал, приподнялся, и господин ротмистр, присев от напряжения, выпустил в него еще три пули. Мак перевалился на живот и застыл.
У Гая все поплыло перед глазами, и он опустился на подножку машины. Ноги его не держали. В ушах его все еще звучал отвратительный плотный хруст, с которым пули входили в тело этого странного и любимого человека. Потом он опомнился, но еще некоторое время сидел, не рискуя подняться на ноги.
Коричневое тело Мака лежало среди бело-розовых камней и само было неподвижно, как камень. Господин ротмистр стоял на прежнем месте и, держа пистолет наготове, курил, жадно затягиваясь. На Гая он не смотрел. Потом он докурил до конца, до самых губ, обжегся, отбросил окурок и сделал два шага в сторону убитого. Но уже второй шаг был очень короткий. Господин ротмистр Чачу так и не решился подойти вплотную. Он произвел контрольный выстрел с десяти шагов, но промахнулся. Гай видел, как каменная пыль брызнула рядом с головой Мака.
— Массаракш, — прошипел господин ротмистр и принялся засовывать пистолет в кобуру.
Он засовывал долго, никак не мог застегнуть кобуру, а потом подошел к Гаю, взял его искалеченной рукой за мундир на груди, рывком поднял и, громко дыша в лицо, проговорил, растягивая слова, как пьяный:
— Ладно. Ты останешься капралом. Но в Легионе тебе делать нечего... Напишешь рапорт о переводе в армию. Полезай в машину.
