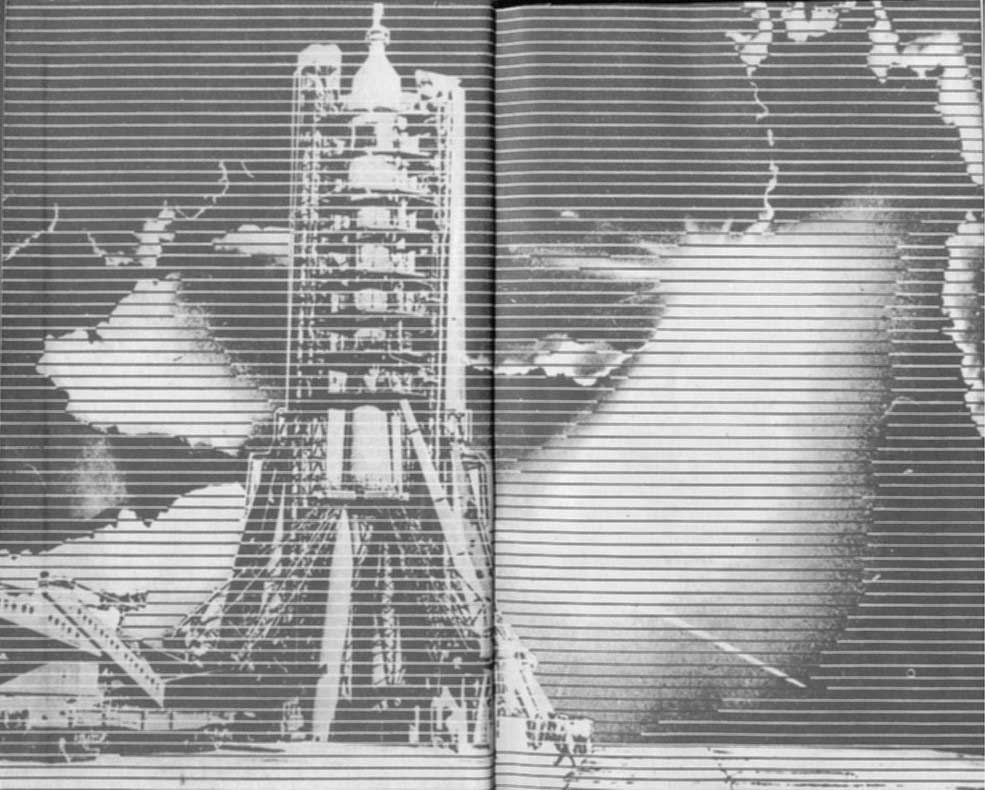сканировал Игорь Степикин

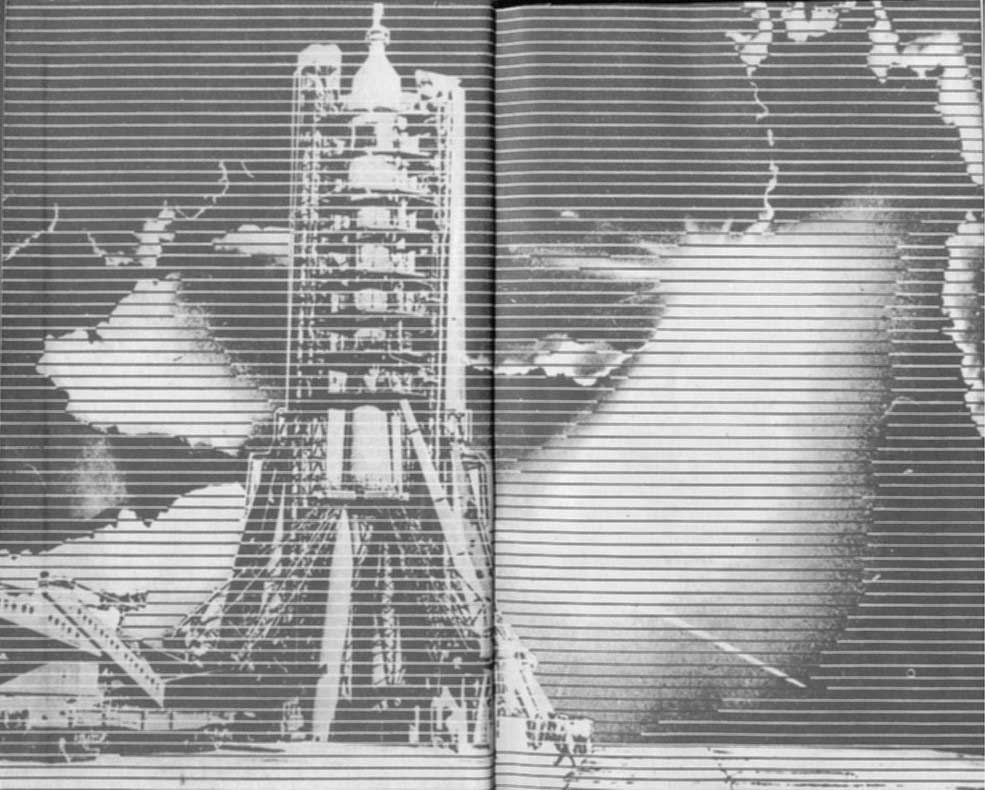
Г. БЕРЕГОВОЙ
НЕБО НАЧИНАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ
МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1976
6Т6(09)
Б48
Литературная запись Г. СОМОВА
319001 БЗ-060-009-76
078(02) — 76
Издательство «Молодая гвардия», 1976 г.

ЧАСТЬ I
Земля — шар. Как и вес, я знал это еще с детства. И так же, наверное, как и остальных, меня это нисколько не удивляло: шар так шар... Не квадратной же ей, в самом деле, быть или, скажем, треугольной? Космическое тело, и все тут; частица вселенной...
И все же Земля — та самая Земля, на которой мы все живем, — шар! Теперь это уже не кажется мне столь простым и привычным.
Дело, разумеется, не в самой форме. Дело в том, что я своими глазами, так же как и не один десяток моих коллег — космонавтов и астронавтов, видел эту шарообразность Земли, что я близко знаю людей, которые собственными ногами стояли еще на одном шарообразном теле — Луне; это американские астронавты Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и еще десять их товарищей. Тесно знаком я и с теми, кто осуществлял посадку автоматических станций на поверхность Венеры — раскаленный до четырехсот пятидесяти градусов мир, окутанный плотной, густой, как суп, атмосферой. Как космонавту также известно мне, может быть, лучше, чем многим другим, и то, что планы дальнейшего освоения солнечной системы не тактика сегодняшнего дня, а стратегия, устремленная в будущее человечества, что все сбывшееся за последние пятнадцать лет — не эпизод, а лишь начало грядущих великих свершений... Одним словом, теперь, когда вселенная перестала для большинства людей быть отвлеченным понятием и Земля, как ее частица, все чаще и все настойчивее заявляет о себе как о космическом теле — одном из бесконечно многих; именно теперь все, что казалось прежде само собой разумеющимся, обрело и новые масштабы, и новый смысл.
Под грохот стартующих с Земли кораблей космос стал реальностью. Не той, что связывали с существованием звезд и галактик ученые в обсерваториях или посетители планетариев, а реальностью, властно вторгнувшейся в нашу повседневность, изменившей не только наш способ ощущать, видеть, мыслить, но и вместе с тем и нас самих. Люди стали чувствовать себя не просто гражданами своей страны, не просто представителями какой-либо нации, народа, расы, но еще и землянами.
Пока это слово не успело войти в широкий обиход, его еще редко произносят вслух, но то самоощущение, которое связано с ним, уже возникло и никогда не исчезнет; наоборот, год от года оно станет усиливаться, крепнуть, упрочаться в сознании людей, объединяя их в единое сообщество — в человечество, уже на иной, неизмеримо более глубокой и прочной основе.
«Я думаю, еще никогда два человека не были так физически удалены от остального мира, как были удалены мы, и в то же время никогда еще не были так тесно объединены с миром через посредство тех людей на Земле, которые поддерживали с нами связь и которые так много сделали, чтобы помочь нам достичь Луны и вернуться обратно, — сказал, делясь своими впечатлениями, Эдвин Олдрин по возвращении на Землю. — В тот момент мы чувствовали — честное слово, чувствовали! — эту почти мистическую сплоченность народов всего мира».
Олдрин не прав, пожалуй, в одном: чувство слитности и единства с человечеством ничего общего не имеет с мистикой — оно естественное следствие того, что человек, выйдя в космос, остро ощутил свое врожденное родство с Землей. Отчужденность космоса помогает глубже и яснее осознать людям, что такое и сама Земля, и населяющее ее человечество. Сегодня человечество уже не просто совокупность живших и живущих людей; человечество — это то, чего нет во всей бескрайней вселенной, но есть на Земле.
Я имею в виду не разумную жизнь вообще, я говорю лишь о человеческой, то есть о той единственной ее на всю вселенную форме, которая присуща нам, людям Земли. Именно это и должно сплотить нас, землян, нерасторжимой связью. Многие, как Олдрин, уже ощутили ее, побывав в космосе; многие начинают ощущать ее и здесь, на Земле, — начатый процесс неостановим, как неостановимо и само устремление человечества в бескрайние пространства вселенной.
Чудес вне сказок и легенд, как известно, не бывает; и если уж человек научился покорять космос, он уже «не разучится» это делать, пока не освоит всей вселенной.
Но вселенная бесконечна...
Хватит ли жизни, чтобы добраться хотя бы только до одной-единственной, самой ближайшей звезды, не говоря уж о других звездах во всем их необъятном множестве?
Жизни человека — бесспорно, нет; жизни человечества — безусловно, да. Человек смертен. Человечество же, как непрекращающаяся преемственность поколений, бессмертно и бесконечно так же, как бессмертна и бесконечна сама вселенная.
Правда, есть тут одна принципиальная тонкость или, если хотите, условие, без которого бессмертия не сохранить.
Продолжительности жизни человека поставлен предел самой природой; старение и смерть запрограммированы в генетических механизмах наших клеток. Закон этот неумолим, и его нельзя обойти. Максимум, что может сделать любая, самая совершенная и искусная медицина, — это довести ее среднюю продолжительность до 120 — 130 лет.
Но жизнь человечества свободна от видовых препон и ограничений. Ничто не в состоянии прервать цепь сменяющих друг друга поколений, ничто — кроме самого человека. Законы природы не властны отчеркнуть границу, обрывающую развитие цивилизации; однако цивилизация сама может запрограммировать собственный конец.
Земля, как и человек, смертна. Она тоже организм и, как и всякий организм, проходит неизбежный цикл: рождение — молодость — зрелость — старость — и, наконец, разрушение — смерть.
Человечество же, помимо того, что мы обычно понимаем под этим, — совокупность живших и живущих людей, их история и культура, — это еще и процесс. Процесс, который в силу абсолютной тождественности каждого своего последующего звена — передачи жизни — может длиться сколь угодно долго.
Однако человечество живет на Земле, а ее ресурсы не беспредельны. Истощив их, земная цивилизация неизбежно исчерпает и собственную жизнеспособность. Проще говоря, предел жизни человечества запрограммирован в образе его действий, в содержании его целей и устремлений.
Давно замечено, что бездельник потребляет гораздо больше, чем тот, кто живет деятельно, кто одержим трудом, интересной работой. Бездельник стремится заполнить пустоту собственного существования вещами; без них ему просто нечем себя занять. Тот же, кто живет деятельно, не столько потребляет вещи, сколько создает их сам; вещи для него не самоцель, а лишь интерьер жизни, смысл которой он видит в самовыражении, в осуществлении заложенных в нем способностей и возможностей. Такие люди обычно меньше берут от мира, чем отдают ему...
То же самое можно сказать и о человечестве. Ему не грозит превратиться в общество потребителей, которое бы, образно говоря, исковыряв шахтами и рудниками Землю, нашло бы в конце концов на их опустевшем дне свою могилу. Беря, оно думает, чем отдать! Люди знают теперь: Земля, как и ее природные богатства, вовсе не так велика, как это когда-то казалось. Во всяком случае, Нил Армстронг, стоя на лунной поверхности, сравнил Землю с голубым апельсином, лишь чудом не затерявшимся в бесконечных просторах вселенной.
Апельсин не апельсин, но, чтобы выжать до конца ее соки, обществу потребителей, если бы к нему скатилась земная цивилизация, едва ли понадобилось бы больше одного-двух тысячелетий. Но тем и велик творческий разум, что целью его является не достигнутое, а достижимое, не свершенное, а свершения, не растворение в настоящем, а устремления в будущее. С началом космической эры люди Земли вступили на тот путь, где грандиозность самих задач, их принципиальная неисчерпаемость гарантируют такую программу дальнейшего развития человечества, которой суждено стать залогом его бессмертия...
Но вселенная бесконечна, вновь могут возразить мне. Не напоминают ли попытки ее освоения пресловутую Вавилонскую башню, с помощью которой люди пытались достигнуть неба, а добились лишь крушения собственных несбыточных надежд... Ошибок, дескать, не повторяют, на них учатся...
Нет, учатся не на ошибках; учатся, преодолевая их. Вместо Вавилонской башни, были воздвигнуты небоскребы и высотные здания, а до неба люди добрались с помощью самолетов. В конечном счете важны не просчеты или несовершенства тех или иных проектов, важна дерзость заключающихся в них целей, важно неукротимое стремление разума сделать невозможное возможным... В этом не только суть и смысл человеческого прогресса, в этом, как уже говорилось, бессмертие человечества.
Жизнь человека — это лишь частица времени; жизнь человечества — это неразрывное сцепление таких частиц, в котором и олицетворяется для нас само время; и так же как время нельзя ни остановить, ни повернуть вспять, так и развитие человечества может двигаться только вперед. Потому-то и неизбежно освоение бесконечной вселенной, если только мы не хотим конца вместе с концом нашей, к сожалению, невечной планеты. Она лишь колыбель человечества, как говорил великий Циолковский, а истинный его дом — вся необъятная ни во времени, ни в пространстве, бескрайняя вселенная.
У нас просто нет выбора... Мы можем выбирать лишь способы достижения цели, но не саму цель. Цель проникновения во вселенную и ее освоения заложена в самой природе разумной жизни. Во всей вселенной попросту нет иных сил, способных реализовать ее единство. Иначе оно оказалось бы мифом, беспочвенным миражем, существующим не объективно, а лишь в воображении человека.
Разумеется, человек не единственный представитель разумной жизни. Прошли те времена, когда по всякому поводу и без повода ожесточенно дискутировали на тему: есть ли разумная жизнь на Марсе? На Марсе ее нет. Но она есть на Земле. А уж одно только это свидетельствует, что вселенная не может быть насквозь пустынной — иначе пришлось бы признать либо существование господа бога, либо передать приписываемую ему прерогативу сотворения чудес самой природе. Но бога, как известно, нет, а природа творит не чудеса, а действительность, и было бы наивно считать, будто мы ее уникальное детище, которого она больше просто не в состоянии повторить.
Во вселенной, безусловно, существует не только разумная жизнь, но и бесконечное разнообразие форм ее проявления. Мы одиноки только пока. Да, пока. Пока не научимся преодолевать те барьеры, что отделяют сегодня нас и от других миров, и от населяющей их разумной жизни.
Понятно, я высказываю лишь собственную точку зрения; ее в немалой степени помогли мне сформировать то самоощущение, которое возникает во время пребывания в космосе, те внутренние процессы и те впечатления, которыми делились со мной многие мои друзья и товарищи по профессии. Я вовсе не собираюсь здесь оспаривать существующие взгляды ученых и специалистов, работающих в области этих проблем, хотя и среди них немало людей, разделяющих оптимизм по поводу обитаемости вселенной.
Наука потому и наука, что она оперирует лишь достоверно доказанными фактами, и все ее гипотезы опираются только на них. Но ведь научные факты накапливаются постепенно, со временем, а вселенная существует вся целиком, независимо от того, какие ее «детали» уже известны людям, а какие еще нет. Короче говоря, реальность внеземных цивилизаций не отрицается и самой наукой; она просто не входит пока в круг фактов, достаточно подтвержденных современным уровнем точных знаний.
Но, помимо фактов, существуют еще и логика, и интуиция, способность предчувствования и предвидения. Они-то, не дожидаясь подтверждений официальной науки, и приводят человека к неизбежной мысли, что разумная жизнь не неповторимый фокус природы, а ее неотъемлемая часть, равноправная всему остальному. Именно поэтому люди читают не только учебники по физике, но и охотно следят за новинками научной фантастики. И, кстати, совершенно правильно делают. Как свидетельствует опыт, фантастика того же Жюля Верна или предвидения Циолковского почти полностью подтвердились жизнью.
Мы и сегодня ищем следы внеземных цивилизаций у себя на планете, нацеливаем в небо антенны мощных приемных устройств в надежде уловить с их помощью сигналы иных сообществ разумной жизни; но наиболее верный путь, бесспорно, все-таки там, где мы прокладываем свои первые космические трассы, — именно здесь, в открытом космосе, человечество обретет и свою бессмертную цель, и те встречи, которых оно жаждет и к которым стремится...
В космосе уже побывали восемьдесят человек; придет время, когда там окажется все человечество. А Земля... Что ж, Земля так и останется его родиной, благодарная память к которой навсегда сохранится. Ведь как небо для летчиков, как космос для космонавтов и как вселенная для будущих поколений человечества — все начинается на Земле...
* * *
Я, разумеется, не публицист и не философ. Мне довелось посвятить жизнь одной из самых динамических профессий: смысл труда и летчика и космонавта, как известно, в самих процессах движения, точнее, в овладении ими в интересах самого непоседливого существа на Земле — человека.
Но, как уже говорилось, само движение не самоцель. Важно, куда и во имя чего ты движешься. Потому-то мне, перед тем как рассказать о своей профессии, о ее людях и ее свершениях, и пришлось начать с устремлений всего человечества. Без этого, на мой взгляд, нельзя понять главного, что происходит в сегодняшнем мире...
Однако, говоря о человечестве, я ни на минуту не забываю, что оно состоит из людей. Больше того: человечество, как мне думается, учится у человека. Иначе где ему еще взять учителя!
Скажут: история! Конечно, история. Но ведь и о ней мы узнаем не с потолка, а через труды историков, в которых не просто отражены исследуемые ими события, но заодно и весь их личный профессиональный опыт, спаявший отобранные факты в определенную концепцию. А историки, да простят они меня за столь неловкое утверждение, тоже только люди.
Словом, судьба всякого человека, на мое разумение, так или иначе преломляет в себе судьбы самого человечества, состоящего, как известно, все из того же самого «материала» — из нас, грешных... Понятно, бездельников и тунеядцев я решительно оставляю в стороне; они, на мой вкус, как, впрочем, и иные разновидности принципиальных потребителей, к человечеству причислены лишь по недосмотру и недоразумению.
В человеке же, в настоящем, человеке-созидателе, какую бы он область ни избрал для своей деятельности, как в капле воды отражены водопады и водовороты главных течений его эпохи. Над историей нет никакой руководящей, направляющей ее по тем или иным путям силы; не катится она также и самотеком — ею движет человек. Именно его идеи и мастерство, его начинания и свершения, объединяясь и взаимодействуя с идеями и мастерством, начинаниями и свершениями других таких же, как и он сам, отдельных людей, вызывают к жизни и техническую мощь человечества, и дерзкое величие его замыслов, и грандиозность самих свершений.
В осуществлении общих целей нет места табели о рангах — участие каждого из нас одинаково ценно и одинаково необходимо. Конечно, кто-то умеет лучше, кто-то делает больше; есть, наконец, одаренность, талантливость, гениальность — люди разные. К счастью, разные. Ведь мир состоит не из одних идей; в нем есть и гвозди, которые надо уметь вколачивать, чтобы скрепить счастливую мысль с тем материалом, в котором ей суждено воплотиться, — в дереве, в пластмассе, в металле... Да и сама идея, как бы она ни была величественна и необходима, должна, прежде чем осуществиться, овладеть умами людей, стать понятой и принятой.
Каждый из нас идет к свершениям своей эпохи собственной дорогой. У одних она, если повезло, проста и ясна с самого начала; у других — извилиста и петлиста; но в итоге и те и другие не остаются вне веяний своего времени. Не все, разумеется, попадают в гущу событий, но и самая отдаленная их периферия тесно увязана с самим ядром.
Моему пути в космос — а я собираюсь говорить о развитии космонавтики, великом свершении нашей эпохи — не сопутствовали никакие особые, из ряда вон выходящие обстоятельства. Жизнь как жизнь, судьба как судьба... Она могла стать жизнью и судьбою любого другого человека, ибо я не знаю за собой никаких выдающихся талантов или даже задатков. Но она стала моей. Почему? Мне и сейчас трудно однозначно ответить на этот вопрос; ответ на него, видимо, во всей прожитой жизни.
У меня было, есть и, надеюсь, останется впредь только одно — стремление всегда делать столько, сколько я способен сделать, и ни на йоту меньше! Но ведь и это качество вполне обыденно: овладеть им может всякий, кто того захочет.
Конечно, было во мне и желание не разменять жизнь по пустякам, поставить ее на пользу людям. А для этого, я знал, необходимо выкладываться до конца, жить так, чтобы не оставлять про запас ни капли отпущенной тебе энергии.
В физике говорят, что, когда энергия какой-либо системы достигает критического уровня, критического порога, в ней неизбежно возникает новое, отсутствовавшее до того качество. Мне в конце концов тоже удалось выйти на свой критический порог — тот порог, с которого для меня открылась дверь в космос...
Правда, перед этим мне пришлось перешагнуть еще через один порог, за которым, кстати сказать, помимо прочего, скрывалась для меня и возможность осмыслить собственную жизнь — по крайней мере, ту ее часть, которая к тому времени уже была пройдена...
ЧАСТЬ II
Порог сурдокамеры, который я переступил, напоминал порог бункера газоубежища: его внушительной ширине соответствовала массивность тяжелой, герметически пригнанной двери. Если бы речь шла о таких «пустяках», как фосген или табун, за подобными стенами беспокоиться было бы не о чем. Но эксперимент, естественно, не имел ровно никакого отношения к боевым отравляющим веществам, и внутренняя часть сурдокамеры лишний раз свидетельствовала об этом. Помещение напоминало спичечный коробок, увеличенный раз в сто и выстланный изнутри звуконепроницаемым покрытием. Не содержала в себе ничего необычного и его «начинка». Низкий узкий топчан для сна, рабочее кресло и стол, холодильник для продуктов, различная аппаратура с ее несчетными стрелками приборов, клавишами переключателей, рычажками и тумблерами — ничего непривычного, настораживающего. За всем хозяйством, включая с этой минуты и меня самого, должно было наблюдать с помощью нескольких вмонтированных в стены объективов бесстрастное всевидящее телеоко.
Не оглядываясь на закрывшуюся для меня на долгих десять суток дверь, я подошел к столу и разложил на нем свое более чем скромное имущество: пару книг, стопку чистой бумаги, чурку липы и перочинный нож. Ничего лишнего брать с собой не полагалось.
Жить предстояло по графику, разработанному поминутно.
В сурдокамере практиковались три вида графиков: прямой, перевернутый и смешанный. Прямой график наиболее простой и легкий — он предусматривает привычный для человека суточный ритм жизни: днем — работа, ночью — сон. Перевернутый сложнее: когда на улице ночь — в сурдокамере день, и наоборот. Самое трудное, самое изматывающее — смешанный график: время сна, работы или отдыха обусловлено в нем не естественной периодичностью суток, а принудительными командами.
Но независимо от типа графика, будь то прямой, перевернутый, смешанный, распорядок дня включал В себя строго определенные, одинаковые для всех элементы: восьмичасовой сон, утреннюю зарядку, четырехразовое питание, работу с различными приборами, тестовые пробы и, наконец, два-три часа свободного личного времени. Менялись не сами элементы, а лишь их место в сутках. Последнее и обусловливал график.
О том, какой из его трех видов достанется тебе, заранее не сообщалось. Только войдя в сурдокамеру, я узнал, что мне выпало жить по смешанному графику.
Но график — это потом. Для начала я еще раз, но уже более внимательно огляделся по сторонам — нового от этого ничего не прибавилось. Все та же скупая обстановка тщательно продуманного эксперимента. Разве что окуляры телемониторов поблескивали теперь не столь холодно и отчужденно. Они, кажется, уже начали за мной свою слежку. Конечно, и раньше я знал, что так будет, но теперь я ощутил это физически. С этой минуты всякий мой жест, каждое движение фиксировались наблюдающими за мной операторами.
Внезапно я почувствовал себя чуть ли не голым. Ощущение было настолько неожиданным и острым, что захотелось ощупать себя, чтобы убедиться в том, что и без того было ясно, я одет, на мне легкий хлопчатобумажный комбинезон, мягкие, на микропористой подошве туфли. С трудом отделавшись от навязчивого состояния, я подошел к столу, перевернул первый листок своего графика: полчаса, отпущенные на то, чтобы вжиться, свыкнуться с новой обстановкой, прошли. Пора было браться за дело.
Первые часы пролетели неожиданно быстро. Согласно графику я возился с таблицами, отвечал на тесты, выполнял другие указанные там работы... Все вроде бы шло нормально, все было хорошо.
Но постепенно я стал ощущать какое-то беспокойство. Словами его было трудно определить: оно вызревало где-то внутри сознания и с каждой минутой росло... Подавить его, отделаться от него не удавалось...
Я взглянул на часы, потом — в график. Там против очередной отметки стояло одно короткое слово: «Отдых».
Отдых так отдых, подумал я и, сев в кресло, медленно огляделся по сторонам.
И тут на меня обрушилась тишина.
«Ти-ши-на...» — мысленно произнес я хорошо известное всем слово, пытаясь вдуматься в то, что стояло за этим вроде бы таким ясным и обыденным прежде понятием. «Тишина...» Я услышал свое дыхание и еще, как бьется мое сердце. И все. Больше ничего не было. Абсолютно ничего. Я представил себе ком ваты, огромный ком, величиной с земной шар; внутри его — я. Тишина... Ком разрастался, скачками захлестывая орбиту за орбитой, заполнил серой клочковато-волокнистой массой все околосолнечное пространство; я съежился в абстрактную точку, биллионы биллионов кубических километров ваты вокруг нее — это и есть тишина?..
«Спокойно! — сказал я себе. — Просто у тебя разыгралось воображение». Я открыл глаза и выбрался из этой проклятой, заполонившей все вокруг ваты; сурдокамера выглядела совсем буднично и успокаивающе, но тишина оставалась. Только теперь она уже не пугала. Теперь она включила в себя то, чего я не знал о ней прежде и чего никогда уже не удастся от нее отделить, — реакцию на одно из качеств космоса. Оно, это качество, лишь слегка коснулось сознания, оглушило, сковало на миг судорогой и отступило, так и оставшись непознанным... Я узнал лишь одно, что тишина не только простое отсутствие шумов и звуков; тишина — это одно из свойств существующей материи, свойство, которое может убивать.
Конечно, все дело в восприятии. Совсем не обязательно путать тишину и одиночество сурдокамеры с тишиной и одиночеством космоса, не обязательно воспринимать их образно, через эмоции; можно подходить к ним отвлеченно, рассматривая их сквозь спокойную призму логики; но случись так, что придется остаться с космосом один на один, без шансов на чью-либо помощь, на чье-то вмешательство, как к этому ни относись, исход в конце концов будет один: безумие и неизбежный распад личности. Человеческая психика, не защищенная общением с себе подобными, и абсолютность таких свойств космоса, как тишина и одиночество, — явления несовместимые. Кому-то придется уступить место...
Может быть, и, как говорят, открываю Америку, ломлюсь в открытую дверь... Да, конечно. Я понимаю, что все это, вероятно, известно и без моих самонаблюдений. Известно теоретически. Но я открыл для себя Тишину и Одиночество не умозрительно, не путем логических рассуждений: я открыл их, закрыв за собой дверь сурдокамеры. А это, думаю, не одно и то же.
Впрочем, так думал не только я. Когда после закончившегося испытания в сурдокамере я показал нашему врачу Богдашевскому составленный мною график изменений психологического состояния (пики кривой пришлись в нем на первый, четвертый и последний — десятый — день), тот усмехнулся, достал с полки книгу, касавшуюся вопросов психологии космоса, и открыл ее на странице, где обобщались аналогичные данные. Оба графика почти совпали. Видно, не один я чувствовал себя не в своей тарелке, когда, сидя в сурдокамере, впервые, пусть даже в самом первом приближении, приобщался к грозной глубине и категоричности свойств космоса.
Конечно, сами по себе искусственно созданные тишина и одиночество сурдокамеры переносятся сравнительно легко, когда знаешь, что это всего-навсего опыт, и только. Все дело в воображении. Но если тебе предстоит в будущем подняться в космос, остаться с ним хотя бы ненадолго лицом к лицу, уже сама только возможность этого факта удесятеряет остроту восприятий, и тогда искусственно заданные параметры опыта на какое-то время теряют свою условность и переживаются как реальный космический полет — тишина сурдокамеры становится тишиной космоса. Собственно, ради подобных вещей и городится огород: космонавт должен подготовить себя к встрече с космосом. Подготовить себя и доказать другим, что готов.
Ради этого и следят за тобой круглосуточно дежурящие у телеэкрана операторы, ради этого ты обвешан с ног до головы всевозможными датчиками, день и ночь фиксирующими динамиду твоего психофизиологического состояния, ради этого ты скрупулезно выполняешь каждый пункт заданного на десять суток жесткого графика — сурдокамера не только очередной объект твоей тренировки, но и твой очередной экзамен, продолжение твоей проверки на прочность. Сейчас проверяется нервно-психическая устойчивость..,
...Я смотрю на часы. По графику полагается спать. Спать мне совершенно не хочется. Но слова «не хочется» здесь не существует. График — это приказ. Я ложусь и закрываю глаза. Говорят, бессонницу лечат лекарствами. Здесь лекарств нет, здесь есть необходимость и воля. Я знаю, что корабль, вышедший на орбиту, огибает земной шар шестнадцать раз за одни сутки. Шестнадцать раз в сутки наступает в его кабине ночь, шестнадцать раз в сутки сменяет ее день, Но я знаю не одно это. Я знаю, что в космических полетах членам экипажей придется заменять друг друга, что режим вахт на кораблях будет жесткий, что люди, которым придется выполнять сложную, требующую всех физических и духовных сил работу, должны будут всегда оставаться в форме, а чтобы сохранять бодрость и свежесть, нужно научиться подчинять себя распорядку дня, любому избранному в полете графику.
Мой график мне приказывает сейчас спать. Я могу обмануть операторов и притвориться спящим, но я не хочу обманывать себя. Когда абсолютно не хочется спать, заснуть трудно, но не невозможно. Я сосредоточиваю внимание, я собираю в узел волю, я сплю... Космонавты не имеют права на многое, в том числе и на бессонницу.
...На четвертые сутки я вновь почувствовал, как нарастает отпустившее было напряжение. Вновь появилась скованность, понизилась способность сосредоточиваться; где-то на дне сознания снова угольком тлела беспричинная тревога.
Человеческий мозг — штука беспокойная. Среди многих качеств, которыми он обладает, отсутствует одно — лень. Мозг действует постоянно. Даже когда человек спит. Очаги торможения, возникающие во время сна, захватывают лишь какие-то участки. Остальная часть мозга продолжает работать: додумывается недодуманное, отыскивается ненайденное, перетряхиваются кладовые памяти, вспыхивают зарницами рождающиеся ассоциации... Человек спит, а часть его мозга бодрствует, мозг работает. Иначе он попросту не может.
Но любая работа требует какого-то сырья, исходного материала. Таким сырьем для деятельности мозга являются впечатления, приходящие в него извне. Когда их нет, нормальная деятельность мозга встает под угрозу. Мозг вынужден как бы буксовать на месте, питаться, так сказать, самим собой — впечатлениями, накопленными прежде. И это бы полбеды: кладовая памяти практически неисчерпаема. Дело в том, что свежее впечатление в отличие от впечатления уже пережитого несет в себе, помимо информации, еще и заряд энергии, или, как говорят психологи, является раздражителем. Без этого мозг ничто; машина, работающая по инерции, без горючего... Одним словом, человеческому мозгу жизненно необходим приток свежих впечатлений. Иначе он долго не протянет... Поэтому сурдокамера — это не только тишина и одиночество; сурдокамера — еще и барьер, отгораживающий от впечатлений. Все, что происходит по ту сторону ее стен, для того, кто находится внутри, как бы не существует. Я знаю, что существует Звездный городок и Москва, Сибирь и Кавказские горы, Африка и созвездие Скорпиона... Но все это сейчас существует для меня не реально, а лишь в моей памяти. Ничто ниоткуда не проникает внутрь сурдокамеры. Объективно мир существует, субъективно для меня его все равно что нет. И моя психика не хочет с этим мириться...
Пока не хочет. А если не сможет?..
Я наперед знаю, что произойдет в сурдокамере, если условия опыта продлить на неопределенно долгое время. Для начала примутся заходить в гости галлюцинации, затем все чаще и чаще начнет утрачиваться контроль над действительностью, и, наконец, на каком-то этапе мозг неизбежно не выдержит и сдаст. Сенсорный голод, как называют психологи недостаток притока впечатлений извне, если дать ему волю, никогда не останавливается на полдороге.
Но, конечно, ничего подобного не случится. По ту сторону стен круглосуточно дежурят люди; они всегда начеку, они всегда готовы прервать опыт. Да и сам я в любую секунду могу нажать кнопку аварийной сирены. Словом, все в порядке. Все в полном, на сто процентов порядке. Просто сегодня меня гложет одиночество и отсутствие впечатлений — факторы, которые запланированы экспериментом. Вопрос лишь в том, насколько успешно я со всем этим справлюсь. А это зависит только от меня самого и от моей нервной системы...
По графику сейчас время отдыха, мое личное время. Я беру чурку липы и начинаю ее строгать. Мне хочется выстругать из куска липы крохотный Як-3. Я хорошо знаю эту машину; в свое время я много и вроде бы неплохо на ней летал...
Я стругаю ножом мягкую, податливую липу и думаю о своем будущем. Сегодня оно связано для меня с космосом. Я хочу подняться в его бездонную глубину и верю, что мне удастся этого добиться. А тогда вместе со мной вторгнется в космос и мое прошлое. Ведь именно оно привело меня сюда, в сурдокамеру, где я стругаю липу и веду бой с одиночеством, тишиной и сенсорным голодом.
Каким же оно было, мое прошлое?
Может быть, именно сейчас самое время вспомнить его, вглядеться в себя, чтобы знать, что берешь с собой, готовясь покинуть Землю? Видимо, это не такое уж пустое занятие, на которое было бы жаль потратить отпущенное графиком личное время...
Я стругаю перочинным ножом кусок липы, стараясь придать ей очертания крыла крохотного Як-3, и вспоминаю прошлое. В конце концов, мое личное время — это мое время, и мне решать, как и на что его потратить.
...Крыло Яка, кажется, начало, получаться.
Тогда, в сорок первом, тоже были Яки. Машина по тем временам хоть куда: скоростная, легкая в управлении, маневренная,.. Но полетать на ней так и не довелось: пришел приказ переучиваться на Илы.
Мне, как я тогда считал, не повезло с самого начала. Война застала меня в Луганском летном училище, на «бомберах». Казалось бы, чего лучше: бомбардировщики — основа боевой авиации: собирай чемодан — и на фронт! Но моего мнения, конечно, никто не спрашивал, и я получил назначение в разведывательный полк, где на дюжину летчиков приходилась одна-две машины, а право на вылет чуть ли не разыгрывали в лотерею. Кругом черт знает что творится; фронт растянулся почти на три тысячи километров; немцы рвутся к Москве; а я, молодой здоровый парень, налетавший к тому же около сотни часов в воздухе, торчи на полупустом аэродроме, жди очереди!
Но приказы не обсуждают; это-то я уже знал и в то время. Чего, к сожалению, не мог сказать о многих других, подчас куда более важных и серьезных вещах...
Война по-настоящему коснулась меня в Орше; коснулась и сразу же хуже кипятка ошпарила душу, перетряхнула в ней все сверху донизу.
28-я дивизия, в состав которой входил полк, куда я получил назначение, стояла в Бобруйске. А приехав в Оршу, я узнал, что Бобруйск прошлой ночью взят немцами, — ехать дальше, следовательно, было незачем. Поначалу меня это известие в какой-то мере ошеломило. Не надо забывать, что мне тогда едва исполнилось двадцать лет и я, естественно, на первых порах растерялся. Но затем мне пришло в голову, что дивизия внезапно оказалась в пределах активных боевых действий, и, значит, любой ее полк мог рассчитывать на пополнение новыми самолетами. Я почувствовал, что война дохнула мне прямо в лицо и я вот-вот окажусь в центре одного из ее водоворотов.
Случилось иначе. Дивизия получила приказ снова перебазироваться в тыл. И так я вместе с ней менял один аэродром на другой вплоть до самой Медыни, где было решено отправить часть летчиков, в том числе и меня, на летные курсы, на переучивание. Но с войной все же я столкнулся впервые именно в Орше, хотя явилась она мне не в грохоте и огне сражений, а как бы со спины — тихо, буднично, просто.
На вокзале, где я узнал о захвате немцами Бобруйска, ожидали очередной эшелон с запада. Было жаркое, безветренное утро без тележек мороженщиц и сатураторов газировщиц — на перроне среди узлов и чемоданов молча толпились беженцы: война уже успела научить многому и прежде всего терпению. Состав появился из-за станционных зданий почему-то с паровозом в хвосте; платформы катили по рельсам тяжело и медленно; прежде на таких перевозили уголь или щебенку, сейчас на них сидели и лежали люди, вчерашние жители Бобруйска. Многие были ранены. Одни стонали, другие тихо, устало плакали... На одной из платформ сидела молодая женщина в разодранной от плеча до лопаток вязаной кофте. Она сидела спиной по ходу движения поезда, прижимая обеими руками к груди окровавленного плюшевого мишку. Она не плакала; она напряженно, не мигая, смотрела назад — туда, откуда пришел состав... А платформы все так же тяжело и медленно катили по рельсам.
Через несколько секунд коротко звякнули буфера, и у обшарпанного, забитого беженцами оршанского вокзала остановился первый для меня эшелон из войны.
До этого мне казалось, что я знаю если и не все, то очень многое о войне, — столько прочитанных о ней книг, столько фильмов. Но я забыл, что любое искусство, творчество — это всегда отбор, отбор событий, фактов, деталей... Войну же, чтобы ее понять, нужно увидеть в естественном хаосе и нагромождении составляющих ее элементов, увидеть не глазами писателя или режиссера, а непременно своими собственными. Пусть это будет не атака вражеских танков или рукопашная схватка в окопе, пусть это будет расстрелянный фашистами эшелон с мирными жителями из Бобруйска — все остальное, что называется войной, доскажет сердцу прозревшее вдруг воображение. Война потом может длиться годами, оборачиваться для тебя той или иной своей стороной, но главное — отвращение и ненависть к ней — понимаешь навсегда и сразу.
Вечером того же дня, когда я наконец разыскал передислоцировавшуюся из Бобруйска под Оршу часть, мне по-прежнему хотелось быстрее подняться в небо, чтобы начать свой первый воздушный бой. Но вместе с тем я уже понимал, что врага, навязавшего нам войну, надо стараться бить умно и наверняка, а ради этого, если говорят — учись, значит, нужно учиться.
Учеба затянулась на долгие месяцы...
Вначале я переучивался летать на бомбардировщиках ББ-22, затем на самолетах-разведчиках Пе-3, наконец пришел черед сесть за штурвал «летающего танка», бронированного штурмовика Ил-2. Это было уже зимой сорок второго...
По рассказам фронтовиков мы знали, что эту мощную скоростную машину, вооруженную, помимо бомб, пушек и пулеметов, реактивными снарядами — «эрэсами», фашисты прозвали «черной смертью». Но мы знали и другое, знали, что немцы уже вышли на Волгу и что вокруг Сталинграда завязывается одно из решающих гигантских сражений. Ни результаты, которых от него ожидали, ни тем более сам исход его, который уже вызревал в те грозные, полные крайней напряженности дни, нам, переучивающимся в тылу летчикам, были, конечно, неизвестны, и тревога, которую все мы переживали, обостряла желание быстрее разделаться с учебно-тренировочными полетами и попасть на фронт. Душу согревало только одно, что страна, видимо, дерется не из последнего, раз таким, как мы, позволяют сидеть в тылу и утюжить небо не под грохот вражеских зениток, а выполняя указания сидящих рядом инструкторов.
И все же тот день, когда я с группой других летчиков получил назначение на Калининский фронт, принес мне большое и глубокое облегчение. Мир во время войны наконец-то для меня кончился...
А вскоре случилось то, чему поначалу я просто отказывался верить и к чему потом долгое время не мог в глубине души привыкнуть. Явившись в пункт назначения на один из фронтовых аэродромов в районе Осташкова, я услышал сразу и вместе те имена, которые впервые соединились еще в мальчишеских моих грезах, — Громов и Байдуков, Только теперь речь шла не о мальчишеских грезах, теперь герои моего детства по воле случая входили в мою реальную сиюминутную жизнь. Командующим 3-й воздушной армией, в рядах которой мне предстояло сражаться, был Громов, а Байдуков командовал одной из ее дивизий. Два прославленных летчика страны, два Героя Советского Союза, получивших это почетное звание еще в мирные годы, два человека, имена которых я не уставал повторять мальчишкой и жизнь которых я решил взять для себя за образец!
Был, правда, и еще один такой человек, с которым вскоре меня тоже свела война, — Каманин.
Каманин, Громов, Байдуков... Впервые я услышал о них от старшего своего брата Виктора, который в то время работал инструктором в Енакиевском осоавиахимовском аэроклубе. Енакиево — небольшой, тысяч на сто тогда жителей, городок в Донбассе, где я родился и вырос. Начальником аэроклуба вскоре стал давний друг нашей семьи Василий Алексеевич Зарываев. Вот они-то, Виктор и Василий Алексеевич, и заразили меня, пятнадцатилетнего пацана, неистребимой, на всю жизнь, страстью к авиации. Часами я мог слушать их рассказы о первых русских конструкторах — Сикорском, Слесареве, Юрьеве, Григоровиче, которые еще до революции, в условиях царской России, сумели создать и построить самолеты, ничуть не уступавшие лучшим образцам более развитых в техническом отношении стран Запада. Построенный, например, по проекту Сикорского в 1913 году тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» не имел, по общему признанию специалистов, себе равного во всем мире. А «летающие лодки» Григоровича считались лучшими гидросамолетами своего времени... Я жадно ловил имена первых русских летчиков, таких, как Уточкин, Ефимов, Попов, Нестеров, слава которых далеко выходила за пределы тогдашней России; впитывал, как губка, были, напоминающие легенды, и легенды, похожие на были, связанные с их талантом, мужеством, профессиональным мастерством...
Но оба моих наставника неплохо разбирались не только в истории авиации, не хуже они были осведомлены и о ее настоящем. Впрочем, авиацией в те годы бредили все. В стране бурно развивалось самолетостроение; летные школы и училища не поспевали за промышленностью, и нехватка в летчиках с каждым днем ощущалась все острее и острее. Над Военно-Воздушными Силами страны взял шефство комсомол. Одним из ведущих лозунгов того времени стал выдвинутый им призыв: «Молодежь — на самолеты!»
Что-что, а это шефство упрекнуть в формальном подходе к делу было бы трудно. Комсомольцы стали едва ли не самыми рьяными пропагандистами освоения пятого океана, а уж самыми пылкими, самыми горячими сторонниками — наверняка; молодость всегда там, где зарождается новое. И чем значительнее, чем грандиознее само начинание, тем выше, тем мощнее волна массового энтузиазма. А в небо поднимались прославленные воздушные гиганты АНТы, открывая серию агитационных рейсов, в которых принимали участие известные летчики, представители Военно-Воздушных Сил и гражданской авиации, комсомольцы, работники Осоавиахима, сотрудники прессы... Один из этих воздушных кораблей нес на борту имя популярного всесоюзного журнала «Крокодил», другой представлял газету «Правда»... В каждом городе их встречали цветами, овациями, многолюдными митингами; страна переживала становление отечественной авиации как всенародный праздник. Повсюду возникали аэроклубы, повсюду их пороги осаждала рвущаяся в небо молодежь...
Не отставал, разумеется, от жизни и наш Енакиевский аэроклуб; он стал одной из тех многочисленных кузниц, где подготавливали будущих курсантов для летных школ и военных авиационных училищ. Но попасть туда мне удалось не сразу — мешал возраст. Пришлось начать с малого, с планеризма; точнее, со школьного кружка, где я приступил к исполнению обязанностей инструктора.
А время между тем неслось вскачь, не давая ни роздыха, ни передышки, опережая самые дерзкие замыслы и мечты... Каждый день приносил с собой что-нибудь новое, нередко ошеломляющее и потрясающее воображение.
Еще не смолкли последние отголоски челюскинской эпопеи, еще склонялись на все лады имена летчиков Ляпидевского, Каманина, Водопьянова, Молокова, Леваневского, Слепнева и Доронина, которым за отвагу и мастерство, проявленные при спасении экипажа затонувшего во льдах Ледовитого океана парохода «Челюскин», было присвоено звание первых Героев Советского Союза, а мир уже переживал новую сенсацию: беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — Америка.
Почти трое суток находился в воздухе знаменитый АНТ-25, экипаж которого — летчики Чкалов и Байдуков вместе со штурманом Беляковым — сумел покрыть за это время расстояние в восемь с половиной тысяч километров; почти трое суток непрерывной борьбы в труднейших, резко меняющихся метеорологических условиях: обледенение, снежные метели, нулевая видимость, штормовые ветры...
Это был первый из мировых рекордов на длительность и дальность полета. Затем рекорды посыпались как из мешка...
Летчики Громов, Юмашев и штурман Данилин... 10 тысяч 148 километров за 62 часа 17 минут! Новый мировой рекорд дальности беспосадочного полета. Самолет все той же конструкции Туполева — АНТ-25; маршрут: Москва — Северный полюс — Калифорния...
Летчицы Гризодубова и Осипенко, штурман Раскова. Самолет «Родина» конструкции Сухого; маршрут: Москва — Дальний Восток. Женский международный рекорд!..
Но дело, конечно, было не в самих рекордах. Полеты Ляпидевского и Каманина, Чкалова и Байдукова, Громова и Юмашева, Гризодубовой, Осипенко, Коккинаки и сотен других замечательных советских летчиков тех дней свидетельствовали о гораздо большем — о том, что в нашей стране создана мощная авиационная промышленность, опирающаяся на передовую научно-техническую и инженерно-конструкторскую мысль.
Но и рекорды — это тоже было радостно и приятно; они воодушевляли нас, молодежь, подогревали и без того горячее желание овладеть, покорить, завоевать большое небо.
Для меня это желание к тому времени уже успело отчасти осуществиться: мне наконец «стукнуло» шестнадцать, и в связи с этим долгожданным событием один из моих духовных наставников, Василий Алексеевич Зарываев, подписал приказ о моем официальном зачислении в аэроклуб. Неофициально я был его непременным завсегдатаем уже давно...
Состоялся наконец и мой первый полет, который окончательно решил мою судьбу, накрепко и надолго связав жизнь с авиацией.
Первый полет... О нем вроде бы и нечего рассказать (взлет, один-два круга над аэродромом, посадка), и в то же время можно сказать очень многое... Профессия летчика в отличие от большинства других покоряет сразу и навсегда — стоит только раз поднять самолет в небо. У человечества это наследственное; не у человека, а именно у человечества. Небо испокон веков было тем, что неодолимо манило, притягивало людей; когда-то им владели боги, затем птицы... для человека же оно в течение долгих тысячелетий неизменно оставалось недосягаемым и недоступным. Жажда овладеть им в конце концов осела у человечества в крови; с ней человек рождается, с ней он живет, независимо от того, удастся или не удастся ему осознать это.
Многие осознавали. Первые изображения крылатых людей встречались еще в наскальных рисунках пещерного века; легенде об Икаре, сыне Дедала, не одна тысяча лет; знаменитый итальянец Леонардо да Винчи трудился над эскизами летательных аппаратов несколько столетий назад; в XVIII веке не менее известному русскому ученому Ломоносову удалось сконструировать действующую модель вертолета... Словом, вся история земной цивилизации, чуть ли не от самой ее колыбели и до недавних дней, пронизана неистребимой страстью человека проникнуть в бескрайние голубые просторы неба, того неба, которое он видит над своей головой на протяжении всей жизни...
Потому-то первый поднятый мной в небо самолет поднял вместе с тем со дна души и извечную, врожденную мечту человечества. Конечно, его, этого полета, могло и не быть: большинство знакомятся с самолетом лишь в качестве пассажира — а это далеко не одно и то же! Но тот, кто хоть раз взял в свои руки штурвал, кто испытал особое, ни с чем не сравнимое чувство упоения от покоренной высоты, тот, как правило, никогда уже добровольно не бросит этого дела...
Не бросил его и я.
А вскоре профессия летчика внезапно обрела для меня, помимо личных склонностей и интересов, ту огромную значимость и вес, своевременно предугадав которые партия и правительство давно и усиленно форсировали развитие отечественного самолетостроения; началась первая схватка с фашизмом — война в Испании. В ходе ее сразу же выяснилось, что авиации суждено стать одной из решающих сил в любой современной армии.
В Испанию потянулись со всех концов мира добровольцы. Оказались там и наши летчики.
Вначале одномоторные истребители конструкции Поликарпова И-15 и И-16 совместно с фронтовыми бомбардировщиками Туполева серии СБ успешно сражались в небе Испании. Но потом, когда гитлеровская Германия ввела в действие новые истребители Me-109, господство в воздухе перешло в руки фашистов.
Освоенные промышленностью еще в 1933 году истребители И-15 и И-16 успели к тому времени устареть и значительно уступали только что запущенным в производство немецким «мессершмиттам» и по мощности вооружения, и, главное, в скорости. Если пределом первых было 450 километров в час, то последние достигали скоростей порядка 600 и более километров.
Одним словом, немецкий Me-109, работа над которым была тесно связана с усиленной милитаризацией фашизма, оказался неплохой боевой машиной — настолько неплохой, что с ней впоследствии пришлось иметь дело не одним испанцам: истребитель этот дожил до времен гигантских воздушных битв и сражений второй мировой войны...
«И вот, — подумал я, освобождаясь от внезапно нахлынувших, пожалуй, впервые за все долгие месяцы войны воспоминаний юности, — настал мой черед вплотную познакомиться с этим нашумевшим детищем гитлеровских конструкторов!.. Впрочем, — тотчас же усмехнулся я по поводу собственной мысли, — сейчас не тридцать девятый, а сорок второй год!»
Сорок второй... Всего каких-то шесть лет прошло с тех пор, как я впервые сел за штурвал самолета. Но как много изменилось за это время! Тогда, на мирном аэродроме Енакиевского аэроклуба, это был тихоходный учебно-тренировочный По-2, сейчас — бронированный скоростной штурмовик Ил-2; тогда такие имена, как Громов, Байдуков, Каманин, воспринимались сквозь призму недосягаемых идеалов юности, теперь это живые люди, под командованием которых предстояло завтра сражаться...
«Как мало времени и как много перемен!» На этой мысли я окончательно распрощался со ставшим вдруг бесконечно далеким прошлым и отправился разыскивать место для ночлега: к завтрашнему утру нужно было хорошенько выспаться. Ведь завтрашний день должен был стать началом моей работы, работы, к которой я готовился все эти шесть лет...
Фронтовой аэродром живет вне графиков, вне каких бы то ни было, пусть даже самых жестких, распорядков дня и режимов. Здесь каждый человек на счету, каждая минута его времени зависит от внезапно и постоянно меняющихся ситуаций на передовой и связанных с ними летных боевых операций. Необходимость вылета может возникнуть в любую секунду суток. В этом смысле для летчиков на фронте не существует ни личного времени, ни технико-профилактических дней, ни нелетной погоды.
Работы для наших Илов оказалось более чем достаточно: налеты на фашистские аэродромы, «обработка» вражеских коммуникаций, уничтожение артиллерийских и зенитных позиций... Но постоянной и главной целью была железная дорога Великие Луки — Ржев и район находящегося во вражеском тылу города Белого, откуда немцы питали Ржев техникой и людьми.
Боевого опыта в те дни у меня не было никакого, и в воздухе я чувствовал себя как в кастрюле с супом — видишь только то, что перед самым носом. Впереди носа моего Ила чаще всего был ведущий. Он да скачущие стрелки на приборной доске — вот и все, из чего складывалась тогда моя «видимость» в воздухе. Конечно, когда пикируешь, видишь еще и цель. Но это когда тебя на нее выведут. Ориентироваться же во время полета самостоятельно я еще не мог; глянешь вниз, на землю, — будто зашифрована она. Сосед по звену и вражескую батарею заметит, и группу танков, укрывшуюся в перелеске, разглядит, а ты вроде бы ослеп — глядишь и ни черта не видишь. Дело тут, конечно, не в остроте зрения; просто война не парад, на войне технику не демонстрируют, а стремятся спрятать, укрыть как можно тщательнее от посторонних глаз. Ориентировка на местности с воздуха приходит с опытом, если, конечно, удастся успеть его накопить.
Многим не удавалось. Судьба военного летчика в какой-то мере парадоксальна; во всяком случае, она плохо согласуется с законами статистики. Обычно доля риска возрастает пропорционально числу ситуаций, если человек раз от разу подвергает себя одной и той же опасности. У летчика это иначе. Чем больше на его счету боевых вылетов, тем больше шансов успешно увеличивать их число и впредь. Гибли чаще всего именно те, кто свои вылеты мог пересчитать по пальцам. Может быть, это и несправедливо, но беда в том, что война руководствуется отнюдь не критериями морали, — войну можно обуздать только боевым опытом. Конечно, есть еще везенье и взаимовыручка товарищей. Есть, наконец, личные качества, врожденный талант,.. Но все это в конечном счете только помогает успеть накопить боевой опыт; настоящим, надежным, стабильным гарантом на войне (да и только ли на войне?) может служить лишь он... Его не заменят ни самые дельные советы, ни самые дотошные наставления, ни самые подробные инструкции.
Мне повезло, и эту немудреную в общем-то истину я усвоил довольно скоро. Сыграл тут, как часто бывает, свою роль и случай. Точнее, один из тех трагических эпизодов, которыми изобилует война.
Пилот нашей дивизии лейтенант Панов, выйдя из воздушного боя на поврежденной машине, шел на вынужденную посадку. Под ним был лес. Старые, составленные еще в довоенное время инструкции рекомендовали в таких случаях рассматривать кроны деревьев как подстилающую поверхность и садиться на них, будто на землю. Такого рода инструкции, разумеется, ни в коей мере не являются лишь плодами кабинетных раздумий; они обобщают накопленный и тщательно продуманный опыт. Но опыт, учитывающий наиболее типичные обстоятельства. Обстоятельства же, как известно, часто меняются. И то, что типично в одних условиях, становится нетипичным в других...
Лейтенант Панов совершил посадку так, как рекомендовала инструкция. И погиб. Его труп через некоторое время нашли в кабине самолета. Панов не был ранен, не получил опасных для жизни травм; он погиб оттого, что слишком долго висел на ремнях вниз головой...
В какой-то своей части инструкция и на этот раз оказалась верна. Самолет, войдя в соприкосновение с пружинящими верхушками сосен, погасил скорость и, перевернувшись, завис меж деревьев; никаких дополнительно сопутствующих аварий, неприятностей больше не произошло: не возникло пожара, не взорвались бензобаки, летчик с помощью ремней избежал резкого удара и остался жив. Но дальше инструкция разошлась с жизнью. Лес оказался слишком высок, ветви вековых сосен слишком прочны, и машина зависла на высоте десяти метров в переплетенье толстых и крепких сучьев. Фонарь кабины заклинило, и без чужой помощи выбраться из нее было невозможно. Помощь же во фронтовых условиях подчас приходит не сразу — вблизи места вынужденной посадки не оказалось ни деревень, ни другого человеческого жилья...
О смерти на фронте говорят мало, но не всегда и не о всякой. Солдат свыкается с мыслью не о смерти вообще, а о смерти в бою, нелепая смерть вызывает у него активный протест, выбивает из колеи.
Много ходило толков и вокруг гибели лейтенанта Панова. Мужественный, волевой человек, отличный летчик — и вдруг такой несуразный конец! Я слушал и утверждался в мысли: нам, летчикам, мало уметь просто хорошо летать, надо уметь хорошо летать именно во фронтовой обстановке.
Вскоре после этой истории война решила попробовать на прочность и меня самого.
Случилось это, когда на моем счету числилось более десятка боевых вылетов. В воздухе я теперь чувствовал себя гораздо увереннее. Видел перед собой не только ведущего, но и кое-что еще. А главное, почти совсем исчезла неизбежная в первые дни скованность.
Объектом нашего внимания по-прежнему оставались вражеские эшелоны на железнодорожной магистрали Великие Луки — Ржев. Делая очередной заход на цель, я увидел состав, который хотя и продолжал двигаться вперед, но вагоны его уже горели. Казалось, будто их крыши слегка припудрены мелом и ветер срывает с них этот мел длинными белыми струйками. Но это был не мел, а дым, который выбивался на ходу сквозь щели и пробоины от снарядов. Если среди грузов есть боеприпасы или горючее, то эшелону крышка. А если нет?.. Словом, чтобы наверняка поразить цель, нужно было вывести из строя паровоз.
Я сделал горку и вошел в пике. Земля стремительно рванулась навстречу; казавшиеся до того игрушечными вагоны быстро увеличивались в размерах. Стало видно, как из некоторых повалил густой черный дым, перемежаясь с языками ярко-рыжего на его фоне пламени...
А вот и паровоз... И как раз там, где надо, точно в перекрестье прицела, — пора!
Я взял ручку на себя и, выводя машину из пике, на какую-то короткую долю секунды успел заметить, как из тендера, из паровозного котла, даже откуда-то из-под колес — отовсюду брызнули в разные стороны острые струи воды и пара.
Набирая высоту, я знал, что эшелон пошел под откос. Можно было возвращаться домой, на базу.
Огляделся: в небе, кроме меня, никого; остальные штурмовики из моей группы, видимо, обходили железнодорожный узел с другой стороны. Там, за станцией, клубилась огромная туча дыма, которая, растекаясь вправо и высоко вверх, застилала изрядный кусок горизонта гарью и копотью.
Прошло уже порядочно времени после того, как я перевел машину с набора высоты в горизонтальный полет. Вдруг самолет тряхнуло, и мотор сразу забарахлил. Взглянув на приборную доску, я сообразил, что где-то пробита система водяного охлаждения двигателя — вода ушла. Мотор тянул с каждой минутой хуже и хуже, обороты падали. В довершение всего начало падать давление масла. Необходимо было садиться. И как можно скорее.
Подо мной, куда ни кинь, сплошняком расстилался лес; линию фронта, к счастью, я успел перевалить, но о том, чтобы дотянуть до ближайшего аэродрома, нечего было и мечтать. И тут мне вспомнилась вынужденная посадка лейтенанта Панова. И лес тот же самый, и ситуация та же. Как и куда садиться?
Кроны я сразу же решил оставить в покое. «На посадку зайду с края ближайшей опушки, и не поверху, а под основание леса, — мелькнуло в голове в то время, как глаза уже отыскивали эту самую опушку. Сверху хорошо просматривались также и те участки, где лес был помоложе: деревья не так высоки, а стволы тоньше. — Чтобы вдребезги, нужен лобовой удар о мощный ствол старого дерева... Но вероятность такого столкновения в молодом редколесье невелика; больше шансов на то, что в первый критический миг нос самолета минует деревья и основной удар о стволы придется на крылья...» Мотор почти сдал совсем, машина в любую минуту могла потерять скорость и провалиться. Я выбрал участок, где реже стволы и гуще подлесок, выжал ручку на себя и...
И оказался на земле.
Я был жив и, кажется, цел, если не считать ссадин и царапин. Ремни выдержали, и я висел на них грудью в кресле кабины; и это было все, что сохранилось от моего Ила. Крылья, хвост и все прочее остались где-то там, позади, на краю опушки; лишь бронированный фюзеляж проскочил, как таран, между деревьев, оставив на их стволах все то, что приняло на себя первый, главный удар.
Я отстегнул ремни и попытался открыть фонарь, чтобы выбраться из кабины. Сделать это удалось не сразу: фюзеляж здорово деформировало. Пока я возился с фонарем, в голове неотвязно стучала одна и та же мысль: все вышло так, как было задумано. Так, как задумано!
Может быть, это была лишь радость возвращения к жизни. А может, пробуждающееся чувство гордости за самого себя: овладеваю профессией, и довольно успешно...
Позже, когда я уже добрался до ближайшей деревни, которая, к моей радости, оказалась в каких-нибудь полутора километрах от места аварии, мне вдруг пришло на ум, что опыт, настоящий, подлинный опыт — это совсем не сумма механически накопленных навыков и знаний; истинный опыт, на который всегда можно положиться, — это прежде всего то, что раскрепощает в критическую минуту сознание, мозг. Нет и не может быть таких рекомендаций или инструкций, которые смогли бы вобрать в себя все разнообразие и изменчивость реальной действительности. К чужому уму нужно уметь прислушиваться, но жить чужим умом нельзя. Нельзя рабски следовать ничьим наставлениям, даже если они аккумулировали в себе опыт сотен и тысяч людей; к ним необходимо относиться критически, с поправками на каждую конкретную ситуацию. Конечно, и знания и навыки необходимы; Именно они освобождают мысль от черновой работы, переключая все второстепенное на автоматизм рефлексов. Глупо, разумеется, пренебрегать и чужим опытом, он может упростить задачу, подсказать (но не навязать) одно из приемлемых решений, но решать всякий раз приходится самому. И всякий раз наново.
В сурдокамере ломать голову, в сущности, было не над чем: все было решено заранее, все определялось графиком. И в этом, по крайней мере для меня, таилась одна из дополнительных трудностей.
Человек — существо сложное; ему, как никому другому, свойственна постоянная борьба противоречий, которая, кстати сказать, и составляет в значительной мере то, что мы называем духовной жизнью. Я никогда не мог согласиться с широко распространенной точкой зрения, будто люди — либо в силу инертности, либо, наоборот, подвижности ума — делятся на две категории: на тех, кто стремится вмешиваться в ход событий, пытается как-то на них воздействовать, и на тех, кому якобы нравится плестись по проторенной дорожке, жить без лишних забот и треволнений, спокойно и размеренно — словом, «как все».
По-моему, такой взгляд на людей поверхностен, лишен, с умыслом или без него, глубины. Сознание по самой своей природе активно; оно не может существовать в бездействии, покой для него равносилен небытию, исчезновению. Ленив и безынициативен чаще всего не ум, а характер. Во всяком случае, та его часть, которая определяется не столько уровнем сознания, сколько является отражением тех или иных длительно действовавших условий среды. Сознание же всегда деятельно и, пусть это не покажется игрой слов, уже в самой своей деятельности всегда стремится и ищет деятельности же. Потому-то любое самостоятельно принятое решение влечет за собой, помимо самих результатов и чувства ответственности за них, еще и ощущение удовлетворенности, полноты жизни. Быть только исполнителем — этого недостаточно; мозг будет тосковать о творчестве; ему хочется преодолевать трудности, распутывать головоломки, ощущать плоды не чужой, а своей собственной инициативности и усилий.
Но график приказывал завтракать. Я шел к холодильнику — это был всего-навсего обыкновенный «Саратов» — и снимал с его полок несколько туб. Кофе, овсяная каша, ряженка... Две первые тубы — обычные тюбики из фольги, вроде тех, что с зубной пастой, только побольше — следовало подогреть. Для этой цели была приспособлена специальная электроплитка» Подключить шнур к розетке штука, разумеется, несложная. Через две-три минуты овсянка становилась теплой, а кофе горячим. Садись к столу и наслаждайся «космической» пищей. Надо сказать, что по вкусу содержимое туб мало чем отличалось от привычных земных яств. Чуточку не хватало лишь неизбежных за любым, кроме космического, столом ложек и вилок. В космосе, в условиях невесомости, земная сервировка стола оказалась бы бесполезной.
Я выдавил порцию каши и запил ее глотком горячего кофе. «На обед будет харчо и печеночный паштет, — подумалось мне. — Жить можно!»
Кстати говоря, способности человека к адаптации практически неисчерпаемы; разум — вот что делает его хозяином любых обстоятельств. Правда, мне не раз приходилось задумываться над тем, насколько целесообразны некоторые устремления людей. Взять хотя бы тот же космос. Что это такое сегодня? Насущная необходимость или дорогостоящее хобби человечества?
Я знал, что ракета-носитель, которая должна вывести на орбиту космический корабль «Союз», весит не одну тысячу килограммов. Цифра весьма впечатляющая. Тысячи килограммов электроники, сложных конструкций, горючего — и все только для того, чтобы забросить на несколько суток одного человека в околоземное пространство...
Нет, я, разумеется, не собирался ревизовать цели и замыслы, выношенные лучшими умами человечества; просто это были естественные для всякого думающего человека попытки самостоятельно, на уровне собственной личности, осмыслить свершения своей эпохи.
Конечно, я понимал, что энтузиастами программ по освоению космоса движет отнюдь не праздное любопытство, что существуют такие понятия, как прогресс» неизбежность роста и развития техники, что, наконец, человечество, как убедительно свидетельствует история, никогда не откладывало на завтра то, что в силах было сделать уже сегодня. Но, с другой стороны, именно эта историческая параллель меня больше всего и смущала. Почему непременно сегодня? Насколько своевременны те колоссальные затраты труда, материальных ресурсов и времени, неизбежные на первых этапах освоения космоса, когда на Земле столько неразрешенных важных и крайне актуальных проблем? Разве, скажем, освоение пустынь, заселение огромных и малодоступных пока для человека территорий менее важно и актуально, чем полеты на Луну, полеты на Марс или Венеру? Что, кроме торжества разума и пополнения кладовых информации, может дать человечеству явно непригодная для жизни плеяда планет солнечной системы? Не разумнее ли сначала взять то, что лежит у нас под ногами? Особенно если учесть, что богатства эти, с одной стороны, колоссальны, с другой — необходимы людям уже сегодня, а разработка ресурсов иных планет — дело в лучшем случае отдаленного будущего... Чем же в таком случае следует руководствоваться, решая, своевременно или нет очередное грандиозное начинание?
Я знал, что в мире, где мы живем, все тесно переплетено и взаимосвязано; освоение космоса не может не привести к преобразованиям и на самой Земле. Уже после первых выведенных на орбиту спутников всем стало ясно, что перед человечеством открылись новые неисчерпаемые возможности в таких, например, жизненно важных областях, как связь, метеорология, геодезия, картография, навигация и океанология, исследование месторождений полезных ископаемых и других природных богатств... Достижения космической техники, в свою очередь, начали оказывать влияние чуть ли не на все отрасли промышленности, и прежде всего на производство новых материалов, на электронную промышленность, на автоматизацию, на дальнейший прогресс микроминиатюризации, на повышение надежности самых различных устройств, систем и оборудования: от электронно-вычислительных машин до кинокамеры или транзистора... Словом, уже первые годы космических исследований привели к бурному развитию новой техники, к созданию новых производств, наметили перспективы глубочайших, а подчас прямо-таки революционных преобразований не только в области промышленности и организации производства, но и в торговле, образовании, здравоохранении.
А ведь это только начало!
И все же далеко не все разделяют восторги по этому поводу. Многим колоссальные затраты на реализацию космических программ кажутся неуместными или, в лучшем случае, преждевременными, особенно в тех странах, где еще так много нерешенных насущных материальных проблем. Выражая мнение таких скептически настроенных людей, известный английский историк Арнольд Дж. Тойнби говорил, что «в некотором смысле полет на Луну схож с сооружением египетских пирамид. И если мы достаточно мудры, чтобы достичь Луны, то разве не должны мы чувствовать неловкость за наше неумение справиться с земными делами?»
Иными словами, всему, дескать, свое время...
Я часто думал о том, что человечеству, видимо, не дано заглядывать вперед на столетия; я имею в виду не социально-классовую эволюцию общества — я говорю о локальных задачах отдаленного от нас веками грядущего. Пророки прошлого почти всегда ошибались. Предугадать картину будущего, хотя бы только с главными, узловыми его проблемами и запросами, если и удавалось иногда, то только в самых общих чертах. Но ведь именно там, в далеком будущем, и скрыты те окончательные критерии, с позиций которых наши потомки станут оценивать свершения минувших эпох. Космос или Сахара? Да, выбор предстоит делать нам, и делать его сегодня; проверить же, насколько он окажется верным и своевременным, смогут лишь те, кто будет жить на Земле после нас, может быть, через сотни лет. Иначе, видно, нельзя, иначе попросту не бывает... Дерзать — это не рок человечества, а его высшее счастье, его высокая цель.
Но любое великое начинание, принадлежа в конечном счете всему человечеству, вначале ложится на плечи отдельных людей. Я оказался в числе тех, кому повезло, кого принято называть пионерами нового дела. До меня в космосе удалось побывать немногим. Гагарин, Титов, Попович, Николаев, Терешкова, Быковский, Комаров, Егоров, Феоктистов, Беляев, Леонов да еще около двух десятков американцев — вот и все, кто пилотировал космические корабли.
Моя задача пока выглядела значительно проще. До кабины выведенного на орбиту космического корабля было еще далеко. Мне лишь предстояло доказать Государственной комиссии, а заодно и себе самому, что я готов к трудностям космического полета. Не знаю, к каким выводам на мой счет придут в свое время члены комиссии, но сам я считал, что готов.
С сурдокамерой я уже в какой-то мере свыкся. Нельзя сказать, что я чувствовал себя здесь как на курорте. По-прежнему иногда давали знать о себе одиночество и тишина, но время шло, и никаких ЧП не происходило. Я знал, что некоторые люди не выдерживали долгого заточения, и подобные эксперименты иной раз приходилось прерывать. Одних одолевали галлюцинации, другие не могли справиться с собственным настроением, с нервами, третьим не удавалось в необычных условиях сурдокамеры правильно реагировать на предлагаемые тесты, выполнять разнообразные рабочие задания.
У меня пока все шло хорошо. Работа, запланированная в определенные часы графика, не отличалась особыми сложностями. Мне она, честно говоря, в значительной степени скрашивала добровольное заточение.
Большинство приборов, с которыми я имел здесь дело, представляли собой элементы хорошо знакомой мне авиационной техники. Некоторые из них имели отношение к пилотированию космических кораблей. Как с теми, так и с другими я довольно легко справлялся. Оператор, находящийся где-то за стеной сурдокамеры, задавал с их помощью какой-нибудь комплекс параметров; мне же предстояло, действуя тумблерами и рычагами, удерживать определенный режим. Наблюдая за стрелками приборов, я пытался контролировать обстановку, корректируя свои действия с учетом тех изменений, которые создавались там, за стеной. Как правило, все сходило удачно. Задания напоминали пилотирование самолета вслепую, по одним приборам. А этим меня трудно было сбить с толку: сказывался прежний опыт.
Больше того. Помимо чувства удовлетворения, которое приносила знакомая, привычная для меня работа, она же помогала мне одолевать и одиночество. Как-никак, а вместе со вспышками индикаторов и движением стрелок ко мне из внешнего мира просачивалась хоть какая-то информация. Пусть урезанная, лишенная естественной глубины и красок, пусть схематичная, однотонная, воспринимаемая лишь как считывание с приборов, но все-таки информация. Все-таки приток впечатлений. На них необходимо было реагировать, отвечать действием.
Это несколько походило на игру в шахматы «вслепую». Невидимый мне партнер делал ходы, создавая на приборной доске очередную острую ситуацию; от меня требовалось привести ее в норму. Партии обычно проходили в темпе блица. Постоянный жесткий цейтнот приковывал внимание, удерживая мозг в состоянии длительного напряжения. Такая «игра» требовала ясности мысли, волевой собранности. Пожалуй, это было лучшим лекарством от одиночества. Во всяком случае, часы, отведенные графиком на борьбу с приборами, пролетали незаметно...
Человек должен не только уметь работать, но и любить работать. Почти каждый из нас в глубине души капельку лентяй и лодырь. Такова, видимо, человеческая натура; и не зря говорят, что «лень раньше нас родилась». Но настоящий мужчина не тешит своей лени; он ее только терпит. Всякий раз, едва возникает возможность проявить собственные силы, воля к действию выдвигается на первый план, отметая как несущественное все остальное. Ее-то я и имею в виду, когда говорю о способности человека любить работать.
Я не очень-то доверяю тем, кто толкует о пылких симпатиях к самим процессам труда; человек ценит не усилия, из которых складывается любой трудовой процесс, а достигаемые с его помощью результаты. Не только конечные, но и промежуточные. Последовательность усилий увенчивается последовательностью побед — они-то, как итог отдельных этапов процесса труда, и приносят естественное чувство гордости и удовлетворения. Усилие же само по себе почти всегда тягостно. Радует победа, идущая вслед за ним.
Радость труда — это сумма ощущений от таких побед, которые завершают преодоленные, оставленные позади трудности. Вещественность достигнутых результатов и осознание успеха, сопровождающего их, помогают человеку утвердить себя и в собственных глазах, и в мире. В этом самоутверждении и коренится один из двух основных стимулов, которые осознаются нами как неодолимая потребность к труду.
Вторым таким стимулом служит цель. Ее, кстати, тоже не отделишь от результата; но, осуществляясь в нем и составляя с ним одно целое, цель обладает важным качеством первородства, качеством права выбора — именно она решает вопрос: быть ему или не быть. Труд без цели не труд, а поделка. Способ убить время... Поэтому если и можно говорить о любви к самому процессу труда, обособленному от его результатов и цели, то относиться к этому всерьез, на мой взгляд, явно не имеет смысла.
Можно убивать врагов, но не стоит убивать время. И вовсе не оттого, что оно якобы деньги; наше время — это наша жизнь. Вернуть нельзя ни того, ни другого...
Может быть, именно в этом скрывалась еще одна из причин того, что, даже выстругивая в минуты досуга из куска липы свой Як, я стремился не просто скоротать время — я ставил перед собой сразу две цели. И если первая из них — оставить сувенир на память — была осознана с самого начала, то вторая — осмыслить пройденный путь — пришла как бы сама собой...
* * *
Помнится, я прервал свои воспоминания на том, как удачно выкарабкался из трудной ситуации, совершил посадку на подбитом фашистами самолете и остался жив.
В деревне, куда я выбрался, таща на себе парашют и ту часть оборудования, которую полагалось снять с потерпевшего аварию самолета, мне сказали, что найти «лесной коридор» без проводника практически невозможно. Обычных, мол, дорог туда нет, а «коридор» без чужой помощи в лесу не разыщешь.
Когда человеку едва минуло двадцать, удивить его либо очень легко, либо, наоборот, трудно. Иной раз его способен ошарашить самый ничтожный, вздорный пустяк; в других обстоятельствах он склонен принимать за должное любое, даже самое неожиданное известие. Так произошло и со мной: упоминание о каком-то таинственном «лесном коридоре» не вызвало во мне интереса. Меня больше волновала иная проблема — как бы и где перекусить. Полуторакилометровая прогулка по лесной глухомани, да еще вдобавок с тяжелым грузом на плечах, пробудила аппетит: когда молод, он не пропадает ни от каких треволнений.
Деревня уже успела хлебнуть вражеской оккупации. Чуть не в каждой семье кого-нибудь недосчитывались; дома разорены и разграблены, скотина вырезана... Да что скотина! На всю деревню ни одного петуха. А я еще чуть на обед не напросился.
— Иди-ка, парень, сюда в избу! Тут потолкуем, — окликнул с ближнего крыльца бородатый дед. И, как бы прочтя мои мысли, насмешливо добавил: — Небось соскучилось брюхо-то в лесу? Ну ничего, шпрот нет, а печеной картохой накормим.
Вскоре в пустой от вещей передней комнате большой пятистенной избы вокруг чисто выскобленного дощатого стола собралось чуть ли не полдеревни. Натащили кто чего смог: картошку, вареную свеклу, миски с квашсной капустой и даже кринку неизвестно откуда взявшегося козьего молока. А пацаны, которые сопровождали меня от самой околицы, распространяя попутно по всей деревне весть о потерпевшем аварию летчике, умудрились где-то раздобыть добрую пригоршню махорки...
Я ел и чувствовал, как у меня горят уши. Умом я не знал за собой никакой вины: приказали учиться — учился, пришло время воевать — воюю. Понимал я, разумеется, и другое, что война без жертв и потерь не бывает, что отступление наших армий в той обстановке было неизбежно. И все же непонятный, необъяснимый стыд почему-то не отпускал меня, продолжая жечь щеки и уши...
— А ты, летун, понапрасну-то не серчай. Ты ешь-ка, ешь, — снова усмехнулся дед, второй раз угадав, что делается у меня в голове. — Немцы подбили или сам грохнулся?
— Немцы. Систему охлаждения продырявили. Еле-еле через линию фронта перетянул.
— Ну что ж, на войне это бывает... Багаж свой с собой возьмешь или здесь до поры схороним?
— Нельзя здесь. Не имею, отец, права.
— Коли так, тебе, конечно, виднее. Только вот до «лесного коридора» не рукой подать...
Я и на этот раз не догадался спросить, что за загадочный «коридор» объявился в здешних краях, заменив собой привычные человеку шоссейные или грунтовые дороги. Коридор так коридор — лишь бы побыстрее до аэродрома добраться.
Однако на аэродром я попал не скоро. Только к концу второго дня я вместе с добровольными провожатыми выбрался из болотистой чащобы на дорогу, которая меня буквально ошеломила. Ее-то и именовали здесь почтительно и чуть ли не благоговейно «лесным коридором». И, надо сказать, она того, бесспорно, заслуживала.
За последние два дня мне не раз доводилось слышать от своих спутников ходячую в здешних местах поговорку: бог, дескать, создал землю, а черт — тверской край — лесную, заболоченную Калининскую область. Не знаю, как насчет области, но что касается дороги, на которую мы наконец вышли, она от начала и до конца являлась делом не черта, а рук человеческих. В глухом вековом лесу была вырублена на многие десятки километров узкая просека; верхушки деревьев над ней связали проволокой и веревками, водянистую болотистую почву покрыли уложенными поперек бревнами — получилась дорога, которой сверху не разыскать ни одному вражескому самолету-разведчику. По этому укрытому от чужих глаз зеленому тоннелю, не подвергаясь риску бомбежки, день и ночь шли колонны автомашин...
Распрощавшись со своими новыми знакомыми, я остановил первый попутный грузовик и, забросив в кузов парашют и снятое с самолета оборудование, залез к водителю в кабину. Несмотря на то, что солнце еще не зашло, в зеленом тоннеле было сумрачно, если не сказать темно. Едва грузовик тронулся, я почувствовал, будто кто-то решил вытряхнуть из меня душу; накат из бревен напоминал стиральную доску, на ребрах которой машину трясло так, словно она схватила где-то тропическую лихорадку.
Шофер, молодой парень с обсыпанным веснушками открытым лицом, покосился на меня и буркнул:
— Так вот и ездим! Да вы расслабьтесь, трясти меньше будет.
Но, как я ни расслаблялся, как ни приноравливался к не прекращающейся ни на минуту чертовой тряске, через несколько часов почувствовал себя совершенно разбитым. Казалось, во мне не осталось живого места, которое бы не болело. А ведь по дороге двигались не только автоколонны с боеприпасами и военным снаряжением, часто встречались и крытые брезентовым верхом грузовики с тяжелоранеными.
И все-таки, несмотря ни на что, первоначальное чувство гордости и восхищения не покидало меня, а, наоборот, час от часу крепло, проникаясь сознанием грандиозности и значительности сделанного. Я отлично понимал, как необходима в прифронтовых условиях такая транспортная магистраль, которая бы могла действовать бесперебойно и круглосуточно. Сколько же понадобилось терпения и тяжелого человеческого труда, чтобы проложить сквозь лесную глухомань н трясину эту дорогу-невидимку! Шофер рассказал мне, что немцы догадываются о ее существовании, но найти, как ни бьются, не могут.
— И не найдут! — заверил я его. — Сам летчик — знаю.
К себе в полк я попал только на пятый, считая с момента аварии, день; меня уже и не ждали — думали, погиб. Лишь майор Гальченко, штурман нашего полка, который, оказывается, разузнал от пехотинцев на передовой, что какой-то Ил, дымя мотором, перевалил в тот день через линию фронта, хватив меня огромной ручищей по спине, громогласно объявил, что лично он в моем возвращении ни на минуту не сомневался.
— Раз сразу не гробанулсл, значит, обязан выкарабкаться. А как же иначе! Иди, Жора, отдохни денек-другой...
Но отдохнуть мне в тот день так и не пришлось.
— Береговой! — услышал я вскоре голос все того же Гальченко. — Бросай все к чертовой матери — и к самолету! Понимаешь, какое дело, из разведотдела дивизии только что сообщили, что возле Нелидова раздувает пары состав с танками и артиллерией... Надо успеть перехватить!
Над Нелидовом мы появились внезапно, но железнодорожная станция оказалась уже пустой; видно было, как в панике разбегались в разные стороны маленькие человеческие фигурки. Набирая вновь высоту, я заметил за поворотом успевший уйти со станции эшелон — он быстро набирал скорость. Тотчас же в наушниках шлема прозвучала команда Гальченко: «Все за мной! Бить только по паровозу!»
Эшелон теперь мчался на всех парах. Всякий раз я не переставал удивляться: на что в таких случаях рассчитывает паровозная бригада? Уйти от штурмовиков, скорость которых в пять-шесть раз превышает ту, что в состоянии развить железнодорожный состав, — об этом не могло быть и речи. Разумнее было бы остановить эшелон и, бросив его на произвол судьбы, искать спасенья в ближайшем леске или овраге либо, на худой конец, спрятаться под вагонами. Казалось бы, логичнее пожертвовать одной техникой, чем потерять и ее и людей вместе с нею. А может, они надеются, что подоспеет прикрытие с воздуха? Или что мы напоремся на зенитный огонь?..
Словом, как бы там ни было, но всегда происходило то же, что и сейчас: эшелон, не сбавляя хода, пытался удрать от быстро настигающих его самолетов.
Машина Гальченко ринулась на цель. Я шел третьим, замыкая звено. И когда через секунду-другую наступил мой черед, дело практически уже было сделано: снаряды из моих стволов ушли в густое, плотное облако белого пара — туда, где только что крутил колесами паровоз. Вагоны сталкивались на полном ходу, вздыбливаясь и налезая друг на друга.
А на другой день у развернутого полкового знамени, перед строем, прибывший из политуправления фронта генерал вручил мне первую боевую награду — орден Красного Знамени. Были в тот день награждены и другие летчики нашей части. Каждый, конечно, переживает это по-своему. Для меня же тогда первым, заслонившим собой все остальное впечатлением стало то, что моя жизнь, моя работа на фронте, как внезапно выяснилось, не обезличилась, не растворилась в массе других человеческих судеб, а, оказывается, по-прежнему продолжала оставаться в глазах окружающих людей индивидуальной, была на виду. До этого мне казалось, что в сумятице напряженных, через край переполненных всевозможными событиями будней войны поступки и действия одного отдельно взятого человека остаются малозаметными. Приятно было разубедиться, что это не так.
Не менее приятным оказалось и неожиданное, как снег на голову, известие о том, что наш полк временно выводится из боев и направляется на отдых в тыл, под Калинин.
Весной сорок третьего любой прифронтовой город, включая, разумеется, и Калинин, выглядел не ахти как приветливо и гостеприимно. Пустынные, без снующих взад-вперед трамваев и автобусов улицы; заложенные мешками с песком витрины магазинов; белые бумажные кресты на стеклах окон; редкие, если не считать военных, прохожие и непривычная для большого города тишина... Но никто из нас не обольщался и не ждал чего-то другого. Все мы чувствовали себя приподнято и чуть ли не празднично. Заняв в одном из пригородных домов отдыха несколько небольших коттеджей, которые после скудного на комфорт фронтового жилья показались нам удивительно уютными, мы быстро начали обживаться на новом месте. Всякий пустяк, всякая мелочь вроде свежих накрахмаленных простыней на кроватях, теплой воды в кранах, репродуктора на стене, с утра до вечера неустанно транслирующего из рубки местного радиоузла пластинки с довоенными записями Лемешева и Руслановой, — все доставляло огромное удовольствие и наслаждение. Одни сразу же накинулись на книги из небольшой, но неплохо подобранной здешней библиотеки, другие без устали гоняли шары в бильярдной, третьи с утра до вечера резались в домино... Кое-кто даже умудрялся, и, судя по всему, небезуспешно, совершать вылазки в город...
Но блаженствовать довелось недолго. Не прошло и недели, как поступил приказ получить новые самолеты и перегнать их на наш аэродром, в Крапивню. Дело само по себе привычное, но загвоздка на этот раз заключалась в том, что необходимо было захватить с собой обслуживающий персонал. А Ил-2, как известно, поначалу выпускались одноместными. Кабину для стрелка-радиста оборудовали на них уже потом. Как поступить, каким образом выполнить приказ, никто не знает.
И вдруг приходит ошеломляющее распоряжение. Нам предлагалось поместить в каждую из гондол, куда убираются колеса, по пассажиру, а систему управления шасси отключить на всякий случай для подстраховки: вдруг да кто-нибудь забудет и попытается их убрать — кто-то, колеса или люди, оказался бы в таком случае в положении третьего лишнего.
Трюк этот поначалу всех ошарашил, но потом, когда подумали да прикинули, пришелся по вкусу своей дерзостью и неожиданностью решения. Помимо этого, рекомендовалось еще открыть люки и, закрепив в пространстве позади бензобака подвесные ремни, принять на борт еще по два человека. Так нежданно-негаданно одноместный штурмовик превратился в пятиместный пассажирский лайнер.
Вырулили на старт, ждем сигнала взлетать; и вдруг на аэродроме началась тихая паника. Взлета не дают. Кто-то бежит сломя голову к нашим Илам, кто-то, наоборот, от них. Пилот соседней от меня машины открывает фонарь, спрашивает:
— В чем дело? Снизу кричат:
— Ноги!
— Что ноги?
— Торчат. Из гондолы...
Летчик глянул вниз: действительно, из правой гондолы торчат ноги разместившегося там техника. Здоровенные такие ноги, в заляпанных глиной кирзовых сапогах сорок пятого, а то и сорок шестого размера.
— Ну и что? — хладнокровно вновь спрашивает пилот. — Я же не виноват, если рост у моего пассажира два с чем-то метра. Ну не убираются у него ноги, что я могу сделать!
Надо сказать, что на аэродроме еще не знали о «модернизации» наших штурмовиков. Когда же недоразумение выяснилось, мы наконец получили разрешение на взлет.
Честно говоря, разгоняя по бетонной полосе машину, я чувствовал себя не слишком уверенно. Как-никак, а взлетать с живыми людьми в гондолах доводилось впервые. Но все обошлось как нельзя лучше. Илы один за другим оторвались от бетонки и легли на курс.
За все время перегона я так и не смог отделаться от мысли, что полет наш несколько смахивает на цирковой фокус; расскажи кому-нибудь — не поверят. Разве что посмеются, как смеются, выслушав занятный, с неожиданной развязкой анекдот. Но мне тогда было не до смеха. А тут еще начал перегреваться двигатель: вода в охлаждающей системе достигла критической температуры. Из-за добавочного лобового сопротивления, вызванного полетом с неубранными шасси, мотор работал с перегрузкой; приходилось то и дело менять режим полета. Но, в общем, все сошло благополучно. Пугнула, правда, напоследок плохая видимость: посадочная площадка оказалась затянутой пеленой тумана. Но, по счастью, к моменту посадки туман рассеялся, да и аэродром в Крапивне мы знали как свои пять пальцев. Поэтому посадка всей группы прошла гладко, без сучка без задоринки.
Но только когда были выключены моторы и остановились винты, только тогда я понял, насколько велико было вызванное чувством ответственности внутреннее напряжение: лоб под шлемом мгновенно стал мокрым от пота — и сразу же как гора с плеч. Сел. Сел!!! А со всех концов аэродрома к нам уже спешили люди. Никто еще не знал, что мы пригнали из Калинина не одни новые машины, что вместе с ними мы доставили заодно и весь обслуживающий персонал.
Уже на другой день мы могли начинать работу на новых Илах.
На другой день... На другой день мы, между прочим, узнали, что способ переброски людей на одноместных боевых самолетах разработан в штабе главкома ВВС. Именно главкому, принимавшему участие в спасении челюскинцев, принадлежали рекомендации, которые поразили нас вначале своей дерзостью, а затем — ясностью мысли, умением, взглянуть, когда надо, на вещи с самой неожиданной стороны. «Умнейший мужик! — сказал по этому поводу наш комполка Евгений Васильевич Клобуков и, что-то вспомнив, добавил: — Но попрошу всех учесть: главком распорядился применять этот метод только в исключительных случаях. Только в условиях чрезвычайной обстановки. Это приказ!»
Впоследствии за все годы войны мне больше ни разу не приходилось видеть переброску людей по воздуху на одноместных штурмовиках, но впечатления, связанные с этим эпизодом, неизгладимо остались в памяти, особенно сама оговорка главнокомандующего. Казалось бы, что тут особенного! На войне любой постоянно рискует, подвергаясь всякого рода опасностям. И перелет в гондолах для шасси, разумеется, далеко не самая большая из них. И все же главком счел необходимым ограничить применение остроумного и в принципе, повторяю, почти безопасного метода условиями чрезвычайных обстоятельств. Видимо, имелась в виду не сама степень риска, а моральная сторона дела... Лично я тогда увидел за всем этим глубокое уважение к человеку, уважение, которое не обезличилось даже в суровых условиях войны. Пешек не было; воевали и сражались живые люди, и никто никогда не забывал об этом...
Вскоре после этого случая наша дивизия получила приказ перебазироваться с Калининского на Степной фронт.
На Курско-Белгородском направлении назревала в те дни одна из крупнейших после Сталинграда боевых операций. Шли последние дни июля сорок третьего года. Очередное летнее наступление немцев выдохлось, и измотанные в боях гитлеровские части перешли к обороне, торопясь поглубже зарыться в землю.
Надо сказать, что на том участке фронта, в расположении которого находился аэродром нашей дивизии, им это вполне удалось сделать. По ту сторону передовой лежал глубоко эшелонированный, битком набитый всевозможной военной техникой, мощный укреп-район гитлеровцев. Его-то и предстояло нашим войскам прорвать...
В штабе корпуса круглосуточно шла интенсивная, напряженная работа. Решено было расписать по вылетам буквально каждую заслуживающую удара с воздуха вражескую цель. Командир корпуса Каманин сам возил летчиков на передовую, стремясь, чтобы каждый из нас смог собственными глазами ознакомиться с системой немецкой обороны, присмотреться к тем ее участкам и объектам, которые нам вскоре предстояло подавить.
Поначалу я чувствовал себя на передовой не очень уютно. Не отпускало ощущение того, будто ты весь на виду, будто тебя отовсюду и со всех сторон видно. Не то чтобы это был страх — опасность для летчика, сидящего в кабине увертывающегося от разрывов зениток штурмовика, конечно, ничуть не меньше. Скорее всего сказывалась новизна самой обстановки. Так бывает, когда человек неожиданно— попадает в помещение с незнакомыми ему людьми, которые молча и с неприязнью начинают его рассматривать. Страха же, который, как электроток, сначала обжигает, а затем парализует нервы, от которого теряют голову, впадают в панику. — такого страха испытать мне пока не привелось. Для меня страх осознавался в качестве контролируемой сознанием реакции на опасность. Эмоционально это обычно сопровождалось неприятными, тягостными ощущениями, но мысль в таких случаях никогда не утрачивала ясности, а, наоборот, делалась активнее, четче, сосредоточеннее. Необходимость предотвратить опасность, одолеть внезапно возникшую угрозу уже сама по себе автоматически пробуждала к действию резервные запасы сил.
На передовой же, куда нас привезли, опасность ощущалась не в привычной для меня зримой, конкретной форме — скажем, огонь зенитных батарей или звено атакующих фашистских «мессеров», а была как бы безликой, рассеянной нигде и всюду. Как ловушка, которая поджидает неверного шага и которую не видишь до тех пор, пока она не захлопнется. К такой опасности нельзя было подготовиться, внутренне сгруппироваться, встретить ее лицом к лицу. Во всяком случае, так мне казалось на первых порах, а это, в свою очередь, вызывало гнетущее чувство неуверенности и беспомощности.
Впрочем, оно скоро прошло; я попросту привык к новой обстановке. В какой-то мере процесс этот ускорил и тот профессиональный интерес, которым сопровождались наши поездки. Разглядывая сквозь мощную оптику перископов отдельные элементы и узлы вражеской обороны, прикидывая возможные подходы к целям, чтобы тут же занести результаты проделанных наблюдений к себе в планшетку, я остро сознавал, какую неоценимую помощь окажет вся эта предварительная черновая работа в критические минуты будущих боевых вылетов.
А до вылетов оставались считанные дни. Это чувствовалось буквально по всему. Фронт временно затих, и само затишье говорило о том, что повсюду идут последние торопливые приготовления, что гигантская, сжатая до отказа пружина вот-вот распрямится. И тогда...
Но час этот пока еще не пришел. Как и все вокруг, наш аэродром жил напряженной, лихорадочной, но вместе с тем по-будничному привычной для глаза жизнью. Техники с утра до вечера возились возле машин: что-то латали, что-то смазывали, что-то регулировали... Оружейницы — за нашей экскадрильей было закреплено двенадцать девчат — набивали ленты дли пулеметов и пушек. На каждый самолето-вылет — полторы тысячи патронов и полтысячи снарядов! А в горячие дни — именно их-то и ожидали тогда — по четыре, а то и все пять вылетов за день!
Меньше всего в тот момент забот было у нас, летунов. Если не считать вылазок на передовую, все остальное время летный состав отдыхал, набирался впрок сил перед близкой горячей работой...
Поздними вечерами, когда аэродром затихал до утра, летчики кто помоложе — а таких тогда было большинство — мылили друг другу щеки, соскребали «вечными», как тогда называли, бритвами отросшую за сутки щетину, вытряхивали из гимнастерок въевшуюся в них пыль, наводили глянец на сапоги, торопясь на танцы.
Танцы собирались на ближней от аэродрома лесной опушке. На пенек, сознавая свою значимость и высоко подскочивший в данной ситуации общественный вес, торжественно усаживался известный на всю дивизию виртуоз-аккордеонист, девятнадцатилетний стрелок-радист Сашка Цурюпов и, картинно склоня стриженную под «нулевку», круглую, как бильярдный шар, голову на грудь, брал первый — пробный — аккорд. А уже через несколько секунд в теплом, пахнущем лесной прелью ночном воздухе плыли негромкие, слегка притушенные — с учетом фронтовой обстановки — плавные, мягкие звуки вальса. Аккордеон неторопливо и задумчиво вел рассказ о том, как спадают с берез неслышные, невесомые желтые листья, как вздыхает об отцветшей мирной юности гармонь в прифронтовом лесу, о первой, невысказанной, оборванной на полуслове любви, дорога к которой теперь пролегает через кровь, пепелища и дымные пожарища войны... А рядом, на освещенном лунным светом, утоптанном «пятачке», медленно и плавно кружились пары, слышался смех; девчата, сменив порыжевшие от глины кирзовые сапоги на легкие туфельки, нарочито строгими голосами отчитывали своих партнеров, заставляя их поспешно тушить недокуренные сигареты, — те самые девушки-оружейницы, которые весь день, не разгибая спины, набивали патронами пулеметные ленты... И все кругом было именно так, как рассказывалось в вальсе: и война, и любовь, и прифронтовой лес... Разве вот только листья берез не успели еще пожелтеть и не опадали, шелестя и кружась, на землю...
На рассвете жаркого августовского дня пришел наконец приказ. Двенадцать Илов — я в то время уже был заместителем командира эскадрильи — быстро поднялись с аэродрома, набрали высоту и легли на курс. Над землей стлалась легкая предутренняя дымка, которая, однако, не мешала видеть, что делается снизу. Намеченный командованием к прорыву участок фронта захватывал около сорока километров передовой; сама же зона активного действия авиации простиралась еще на добрый десяток километров вглубь. Сорок тысяч гектаров земли, насыщенных живой силой врага и всевозможной военной техникой, — вот с чем предстояло нам иметь дело.
Группу вел сам комэск. Его рация молчала; он знал, что каждый из нас имеет ясное, четкое представление, кому и что делать. Небо было чистым, истребители прикрытия шли чуть правее и выше... «Неужели немцы не догадываются, что уже началось? — мелькнуло у меня в голове. — И зенитки почему-то молчат...» В этот момент впереди по курсу эскадрильи вспухли белые облачка разрывов, и сразу же — почти рядом, слева. Ведущий круто отвернул и взял вверх; набрав метров пятьдесят, снова лег на курс: для более сложного маневрирования, видимо, не было времени. И как бы в подтверждение, в наушниках прозвучал голос комэска: «Прямо по курсу — цель. Всем приготовиться!»
Через несколько мгновений ведущий уже пикировал. Ринулись вниз и остальные машины эскадрильи. За стеклами фонаря неслышно посвистывал заглушаемый мощным гулом двигателя ветер; земля, будто вспучиваясь, тяжко вздымалась навстречу... Шоссе с колонной движущихся грузовиков, огороды и крыши какой-то деревеньки, еще дорога, тянется какой-то конный обоз... Не то... Не то... Ага! Вот он, этот чертов осинник; сквозь ветви просматриваются темные прямоугольные пятна — танки!
«Огонь!» Это я сам себе. Сам про себя. В наушниках только звенящая тишина. Сейчас не до слов. «Огонь! Так твою растак... Огонь! Огонь!!!»
Облегченная от запасов снарядов и бомб машина взмыла, уходя вверх от верхушек деревьев. Лес горел. Внизу, над быстро расползающейся тучей дыма, что-то глухо бухало, вздымая к небу все новые и новые клубы гари. С того края, где к осиннику примыкало золотистое на солнце ржаное поле, из чащобы, как ошпаренные кипятком тараканы, выползали уцелевшие танки. Последнее, что я увидел, начиная заход на второе пике, — это несколько Илов, которые начали за ними охоту.
И снова пронзительный рев моторов... «Огонь! — шепчу я беззвучно самому себе. — Огонь! Огонь!!! Огонь!!!»
Когда мы легли на обратный курс, осинник пылал одним дружным исполинским костром; во ржи, разбрызгивая багровые факелы от взрывающихся бензобаков и неиспользованных боеприпасов, догорали фашистские «пантеры» и «тигры».
Второй и третий вылеты следовали с интервалами в двадцать-тридцать минут — ровно столько, сколько требовалось, чтобы заменить пустые снарядные и пулеметные ящики. Многие пилоты, особенно из некурящих, даже не покидали кабин, ожидая, когда снующие под брюхом самолета «технари» подвесят новые «эрэсы» и бомбы.
Когда во второй половине дня мы в четвертый раз пересекли передовую, все сорок тысяч гектаров огромного прямоугольника вражеской обороны представляли собой сплошное море бушующего огня. Дым поднимался в небо до шестисот метров; гарь проникала в кабины самолетов, Видимости никакой... Тут-то и пришлись как нельзя более кстати прежние наши вылазки на передовую. Работать приходилось вслепую; и если бы в планшетках каждого из нас не лежали карты с детальной разметкой каждой цели, каждого наземного ориентира, об эффективности вылета не приходилось бы и мечтать. Тщательная же предварительная подготовка решила исход дела. Каманин, не покидавший КП, отдавал по радио лаконичные приказы ведущим: «Действовать по квадрату такому-то!» И все. Остальное было ясно: в названном квадрате, под бушующими клубами дыма, уцелела или не добита какая-то вражеская цель. И группа машин пикировала на этот квадрат, заход за заходом перепахивала землю из стволов пушек, вздымала ее разрывами «эрэсов» и бомб. Единственно, что оставалось не у дел, — это стволы молчащих пулеметов: прошивать из них густую завесу дыма было бы явно бесполезно.
Теперь в небе, загаженном гарью и рукавами дыма, становилось тесно. Оно буквально кишело нашей и вражеской авиацией. Повсюду завязывались короткие воздушные бои. То тут, то там стремительно проносились вниз факелы охваченных пламенем самолетов. Горели и фашисты и наши. Рубка шла насмерть; схватки протекали коротко и жестко: дрались на встречных курсах, на крутых виражах, на молниеносных, как удар штыка, коротких атаках, шли на таран... Небо превратилось в одну гигантскую мясорубку, которая быстро и неотвратимо перемалывала все подряд: «юнкерсы», «мессершмитты», «фоккеры», Илы, Яки, «Лавочкины»... И все же основная масса наших штурмовиков, прижимаясь к земле, ныряя в нижние пласты дыма, продолжала делать свое дело, утюжа и перепахивая вражескую оборону.
Может быть, я бы и избежал в тот раз полоснувшей по брюху моего Ила пулеметной трассы, если бы не необычный камуфляж наших, новых на том участке фронта, скоростных истребителей прикрытия «Лавочкиных». Их в целях дезориентации противника раскрасили тогда как немецкие «Фокке-Вулъфы-190». Не знаю, оправдалась ли в целом эта необычная маскировка, но мне она тогда сослужила плохую услугу.
Это произошло, когда я, расстреляв в последнем пике оставшиеся снаряды и решив возвращаться на аэродром, вынырнул из прикрывающей пелены и стал набирать необходимую, для того чтобы сориентироваться, высоту. Воздушный ад еще был в самом разгаре. Сообразив, где передовая, и ложась на нужный мне курс, я мельком огляделся: с обеих сторон от меня блеснули на солнце два пестро размалеванных фюзеляжа. «Лавочкины»! — мысленно отметил я. — Прикрытие. Опять повезло — доведут до линии фронта». Вдруг на какую-то долю секунды меня кольнуло ощущение не осознанной до конца опасности, и тут же машину резко встряхнуло. Пулеметная очередь одного из «фоккеров», которых я принял за истребители прикрытия, добросовестно прошила мне фюзеляж. Машина сразу же загорелась. Отвернув резким маневром от второго «фоккера», я стал уходить в сторону линии фронта. «Вот тебе и «Лавочкины»! Черт бы ее побрал, эту дурацкую раскраску! — не удержался я. — Только бы суметь дотянуть до своих, перевалить передовую...»
Но дотянуть представлялось маловероятным. Машина разгоралась быстро и споро, словно ее щедро сбрызнули бензином. Я попытался увеличить скорость за счет форсированной подачи горючего; машина теперь шла на пределе, но огонь торопился завершить свое черное дело. Кабину заволокло густым, едким дымом; сзади, стиснув зубы, стонал стрелок-радист Петр Ананьев; у него обуглились сапоги, вот-вот мог вспыхнуть ранец парашюта.,. Нужно было, пока не поздно, прыгать... Приземлились мы на каких-то рытвинах, в нескольких шагах друг от друга. По обе стороны от нас лупили, не смолкая ни на миг, пулеметы... «Угодили на нейтральную полосу, — подумал я, освобождаясь от лямок парашюта. — Все лучше, чем к фрицам в окопы!»
— Какой-то пары секунд лету не хватило, а то сели бы у своих, — сказал, вскакивая на своих обугленных сапогах, Ананьев. Вгорячах он, видимо, позабыл о боли. — Какая-то пара секунд...
— Ложись, — сказал я ему, заметив взметнувшиеся за кустарником комья глины. — Не добили в воздухе, хотят добить на земле.
И в самом деле, со стороны немцев часто заухали минометы. Разрывы ложились все ближе и ближе, но мы уже заползли в глубокую рытвину, и, чтобы отправить нас на тот свет, потребовалось бы прямое попадание.
В ответ загрохотали минометы и с нашей стороны.
— Странно! — подумал вслух я, — После такой капитальной подготовки с воздуха пора бы уже фронту перейти в наступление...
— Так мы же пересекли передовую южнее участка прорыва, — откликнулся Ананьев. — Вам, верно, не видать было, у вас весь фонарь дымом заволокло... А я успел разглядеть... Километров пятнадцать южнее будет.
В этот момент огонь с нашей стороны усилился, и я увидел, как из-за укрытия вылетел «виллис». Прыгая на ухабах и вихляясь из стороны в сторону, чтобы не накрыли фашистские минометчики, верткая машина на полном газу мчалась прямо к нам.
— Вот черт! — восхищенно воскликнул Ананьев. — Ну прямо тебе как шило...
Через несколько секунд «виллис», обдав нас комьями земли, развернулся на полном ходу рядом с нашим временным убежищем. Из машины выскочил какой-то здоровенный старшина-танкист, моментально, будто ребенка, втащил на заднее сиденье обезножевшего от вернувшейся боли Ананьева, попутно помог перевалиться туда же и мне. Плюхнулся за баранку и, дав газ, понесся назад.
Через несколько минут, оказавшись уже среди своих, я узнал сразу две важные для себя вещи. Четверть часа назад фронт на всем сорокакилометровом участке прорыва перешел в наступление; немцы, бросая технику, артиллерийские и зенитные батареи, неудержимо откатывались на запад. Назвали мне и фамилию скромно стушевавшегося за чужими спинами нашего отчаянного спасителя — гвардии старшины Федора Николаевича Рыцина.
Узнать о том и другом было не только важно, но и приятно.
А через несколько дней произошло еще одно очень важное и очень радостное для меня событие. Может быть, самое важное и самое радостное в моей жизни.
Еще перед началом Курско-Белгородской операции я подал заявление с просьбой принять меня в партию. И вот теперь, в самый разгар тяжелых, полных нечеловеческого напряжения боев, когда, казалось, не только люди, но даже и техника работала на пределе, под вечер прямо на летном поле нашего фронтового аэродрома состоялось партийное собрание.
Я только что вернулся с очередного, последнего в тот день боевого вылета и направился было на КП, когда меня окликнули:
— Береговой! Живо на пятачок! Все уже в сборе...
На «пятачке» — так мы по привычке называли место, где происходили все торжественные события вроде вручения орденов награжденным, — собрался уже почти весь летный состав полка. Ни стола под красным сукном, ни стульев или скамеек — ничего этого, разумеется, не было: каждый примостился кто как смог. Долгих докладов или обзоров политической обстановки в те дни не делали: война во все внесла свои поправки и коррективы; протокол партсобрания, пристроив планшетку на радиаторе ближайшего бензозаправщика, вел один из летчиков соседней эскадрильи.
Секретарь полковой парторганизации коротко, буквально в нескольких словах, обрисовал сложившуюся на нашем участке фронта обстановку, перечислил ближайшие задачи и намечающиеся перспективы, а затем, переходя ко второму пункту повестки, достал из папки несколько заявлений с просьбой о приеме в партию.
Мое было зачитано третьим.
Кто хочет высказаться? — спросил он, тряхнув над головой исписанным листом, который я неделю назад аккуратно выдернул из блокнота.
Несколько коротких секунд молчания, в течение которых я отчетливо ощутил, как екнуло и сразу же затарахтело в спешке сердце; потом — не помню кто — громко, слишком громко, как мне тогда показалось, сказал:
— А что тут высказываться — ясное ж дело! Воюет Береговой не первый день, воюет как коммунист! Фрицев бы, покойничков, порасспросить — те бы, думаю, подтвердили... Предлагаю: принять без испытательного срока!
— Кто за? — улыбнулся секретарь. И, оглядев всех, сказал, как отрубил: — Принят единогласно!
А через несколько дней парткомиссия дивизии утвердила решение коммунистов полка, и мне вручили партийный билет.
Так я стал коммунистом.
Тот день был одним из дней третьего года войны; шел мне двадцать второй год...
День и ночь телемониторы сурдокамеры пристально следили за каждым моим жестом, за каждым движением. Для успешного хода эксперимента это было и необходимо и важно. Но нельзя сказать, чтобы это было приятно. Скорее наоборот. И чем дальше, тем больше...
На шестой день пребывании в сурдокамере мне страшно захотелось помыться. Душевой кабины здесь, само собой, не было, но можно было смочить полотенце одеколоном или холодной водой. Словом, я так или иначе, но решил принять ванну.
Мешало только одно — экраны телевизоров. Кто знает, может быть, именно сейчас один из дежурных операторов — особа женского пола.
Недолго думая, я взял несколько бумажных салфеток и, завесив телеобъективы, избавился таким образом от посторонних глаз. Обтереться намоченным в воде полотенцем оказалось чертовски приятно. Я чувствовал, как в мою душу и тело широким потоком вливается бодрящая свежесть. Отжав над раковиной полотенце и предвкушая продление удовольствия, я щедро намочил его вновь.
И тут в сурдокамере завыла сирена тревоги.
Как я и ожидал, инициатива, проявленная с мое?! стороны, пришлась не по вкусу тем, кто находился по ту сторону. И там это не замедлили показать — сирена выла не переставая.
Любопытная штука — человеческое восприятие. Я знал, что ровно ничего не произошло; вой сирены — лишь отклик на маленькую вольность, никак не способную повлиять на ход событии. В конце концов, мокрое полотенце — это только мокрое полотенце! И все же я не мог отделаться от чувства скованности и легкой тревоги. Выходило, будто звук сирены не просто сигнал опасности, в данном случае ложной, а уже сам по себе несет определенный заряд психологического воздействия. Если так, подумалось мне, то с этим вряд ли можно мириться; нельзя допустить, чтобы в критическую минуту, когда от человека требуется максимальная собранность, весь запас его духовных сил, часть их будет расходоваться впустую, на преодоление сопутствующих эмоций... Чтобы быстро принять верное решение, мысль должна быть свободна...
Приняли решение и в операторской. Сирена внезапно смолкла, и по радио прозвучал приказ:
— Уберите салфетки! Немедленно снимите с телеобъективов салфетки!
Это были первые человеческие слова, которые я услышал с того момента, как переступил порог сурдокамеры; первые и последние. В дальнейшем в подобных случаях действовало джентльменское соглашение: телеобъективы оставались открытыми, но операторы отходили в сторону.
Инцидент был исчерпан, и я вновь окунулся в запланированное одиночество. Зато среди моих записей появилась полезная пометка: «разобраться в механизме эмоциональных стереотипов».
Что эмоции играют в нашей жизни огромную роль — ни для кого не секрет. Но взвешивать их, уметь найти их долю в том, что принято называть собственным взглядом на вещи, удается далеко не всегда и не всякому. Порой самое объективное, как нам кажется, суждение оборачивается при поверке лишь замаскированной мозаикой чувств, их равнодействующей. И тогда желаемое выдают за действительность.
Впрочем, желаемое не всегда то слово. С равным успехом за действительность принимают и его антипод — нежелаемое.
Безудержный напор гитлеровских армий в первый период войны, сводки об отходе наших войск, растущий перечень оставленных населенных пунктов и городов, проигранных сражений — все это накапливалось в виде подспудного, загнанного внутрь протеста, освободиться от которого можно было только одним путем — изжить его, приняв участие в успешных и, главное, широких по размаху боевых действиях. Но немцы продолжали наступать, и не находящие исхода чувства постепенно превращались в эмоциональный стереотип, который мешал трезво оценивать действительность. Я, как, может быть, и другие, на какое-то время свыкся с военным превосходством врага, утратил ясное ощущение реальности. Конечно, это ни в коей мере не напоминало пораженческое настроение; победа по-прежнему не вызывала сомнений — исказилась лишь ее перспектива во времени. И даже провал гитлеровского наступления под Москвой, даже катастрофа немцев под Сталинградом не смогли перевесить укоренившийся в сознании стереотип — враг продолжал казаться сильнее, чем был на самом деле. И Москва и Сталинград — это были доводы для рассудка; полк наш не принимал участия ни в одном из этих гигантских сражений. Нам требовалось другое: увидеть удирающих, потерявших головы фашистов собственными глазами.
И такой час наконец наступил. Вскоре после того, как старшина-танкист Рыцин выудил нас с радистом с нейтральной полосы, вражеское сопротивление было окончательно сломлено, и немцы, бросая технику, неудержимо покатились на запад. Битва на Курской дуге закончилась для них невиданным разгромом. И мы — я имею в виду молодых вроде себя летчиков, которым не довелось участвовать в разгроме немцев под Москвой и Сталинградом, — увидели это сами.
А посмотреть было на что. Чего стоило одно только кладбище вражеской техники под Прохоровкой, где разыгралось беспрецедентное по своим масштабам танковое сражение, решившее в значительной мере исход всей битвы. Сотни гектаров выжженной, перепаханной взрывами снарядов и бомб земли былн буквально нашпигованы железом. Хваленые «тигры» и «фердинанды» безжизненно застыли с продырявленной броней, сорванными башнями, распластанными гусеницами; гигантское месиво искореженного, закопченного металлолома — вот все, что осталось от ударной фашистской танковой армады.
Но немцы утратили под Курском не только превосходство в наземной технике; пришло к концу и их господство в воздухе. В небе теперь все чаще распоряжалась наша авиация. Впервые приказы гитлеровского командования, предписывающие избегать боя с советскими истребителями, начали появляться еще в разгар августовского сражения. А вскоре наступил черед «модернизации» всей фашистской военной терминологии. В обиход стали входить словосочетания вроде «выпрямление линии фронта» или «организация эластичной обороны», с помощью которых немцы пытались замаскировать провалы своей стратегии.
Не знаю, удавалось ли им втереть очки собственным солдатам и офицерам, но мы с каждым днем все отчетливее сознавали, что вторжение выдохлось, что теперь у немцев только одна дорога — на запад. Нет, никто из нас, конечно, не тешил себя иллюзией, будто все трудное позади и отныне война смазанным колесом покатится до Берлина; дешевый оптимизм по тем временам не пользовался почетом. Просто вернулась вера в собственные силы, и конец войны, который прежде маячил где-то за семью горами, вновь обрел свою осязаемую перспективу. Враг все еще оставался силен, но мы почувствовали себя сильнее его.
Укреплял уверенность в своих силах и добываемый в боях опыт. У большинства из тех, с кем довелось начинать войну, насчитывалось по пятидесяти и больше боевых вылетов. Мы хорошо знали не только возможности собственных машин, но и то, на что способны немецкие. Игра теперь, можно сказать, шла в открытую. Любая складывающаяся в воздухе ситуация, как правило, не таила уже для нас никаких иксов и игреков. Каждый знал, что нужно делать при тех или иных обстоятельствах.
И все же профессию военного летчика нельзя свести к понятию ремесленничества, когда результат заранее предопределен уровнем навыков. Всякое ремесло, будь то столярное дело или, скажем, труд чертежника, обычно осуществляется в определенных, наперед продуманных условиях, приготовленных как раз для такой работы, — все всегда на своем месте, все под руками. О фронтовом небе такого не скажешь. Чего-чего, а постоянства там не найти. Любая случайность, любая непредусмотренная мелочь стремительно меняют ситуацию, И если ремесло не предполагает в себе необходимости непрерывного выбора, а всегда придерживается какой-либо схемы, лежит в раз и навсегда заведенном русле, то типовой технологии воздушного боя, к счастью или к сожалению, не существует — летчик должен творчески контролировать обстановку. А ей на фронте, как уже говорилось, свойственно внезапно и быстро меняться.
Однажды четверка наших Илов, спалив автоколонну возле Житомира, возвращалась к себе на базу. Шли под прикрытием истребителей, шли весело; и, как всегда после напряженных минут боя, языки у всех развязались. Кто-то, кажется Салтан Биджиев, все время пытался запеть, по мешал Пряженников.
— Салтан! А Салтан! — басил в наушниках его голос. — Почему ты долбал по колонне только из стволов? А «капустку» куда? Под свои сто граммов решил оставить?
«Капусткой» Пряженников называл ПТАБы — противотанковые авиационные бомбы. Когда, охотясь за танками, мы сбрасывали эти пятифунтовые штуковины, взрывы от них чем-то напоминали сверху кочаны капусты.
— Пустой ты человек, Саша! — добродушно огрызался Биджиев. — «Капустку» не для себя — для «тигров» надо беречь; сам знаешь, они вегетарианского не любят... А грузовик я и из ствола очень даже хорошо сковырну. Спроси у Кумскова, он небось уж и итоги подбил.
— Кончай трепаться, ребята! — не выдержав, вмешался в спор Виктор Кумсков, один из лучших летчиков у нас в полку. — Во-первых, к ужину будут малосольные огурцы — сам лично бочку на кухне видел. А во-вторых, поминать фрицев нынче не вам, а мне.
После каждого боевого вылета летчикам причиталось по сто граммов водки. Мы жертвовали ее в общий котел — «на поминки» — и пили по очереди. Кумсков хотя и не терпел спиртного, но никогда не соглашался отказать себе в удовольствии произнести тост за упокой фашистов «как в целом, так и каждого отдельного гада в частности». Ради этого он вел собственную статистику, подводя итоги после каждого вылета.
Я знал, что теперь треп не кончится до самого аэродрома: возбужденные в пылу недавнего боя нервы требовали разрядки. Вдобавок подключились к болтовне и летчики с истребителей. В наушниках царила неразбериха: перебивая друг друга, гудели голоса, слышались взрывы смеха. Салтан Биджиев опять пробовал затянуть песню... И вдруг, перекрывая шум, кто-то крикнул:
— Шесть «мессеров» справа по курсу!
В наушниках мгновенно наступила тишина, как отрезало. И тут же снова:
— Еще шесть! Там же!
Немцы появились настолько внезапно, что уклониться от боя было уже поздно. Чтобы принять решение, оставались считанные секунды. Можно было, конечно, пикнуть и, прижимаясь к земле, попытаться уйти к своим. Но истребителям прикрытия тогда крышка. Трое против одного — дело безнадежное... К тому же, мелькнуло у меня в голове, Биджиев, Кумсков, Пряженников — летчики что надо! Каждый понимает все с полуслова, а нет — так и вообще без слов.
— Делай как я! — услышал я свой собственный, осипший от волнения голос.
И сразу же в наушниках послышался ответный бас Пряженникова:
— Все правильно, Жора!
Он понял, что я решил связать как можно больше немцев. И тут же на нас навалилась восьмерка «мессеров». Четыре остальных завязали бой с четверкой прикрытия.
За спиной у меня из кабины стрелка-радиста торчал ствол крупнокалиберного пулемета. На него-то я и рассчитывал. Всей группой мы снизились до высоты двух десятков метров, или, как говорят летчики, легли «на живот», не давая немцам зайти снизу, и все время меняли строй так, чтобы каждый попеременно становился то ведомым, то ведущим, создавая тем самым наиболее выгодные для воздушных стрелков условия, чтобы отражать атаки фашистских «мессеров».
Нельзя сказать, чтобы это было легким и простым делом, но ничего другого нам не оставалось. Вести бой на равных при разнице скоростей в полтораста километров значило бы, что все четыре Ила через минуту-другую превратились бы в четыре факела. А меняя строй и страхуя друг друга, нам удалось отвлечь на себя восьмерку противника, не подпуская его в то же время достаточно близко. Откуда бы ни заходили «мессеры» на атаку, везде их встречали пулеметные трассы. Показавшаяся поначалу легкой добыча оказалась фашистам не по зубам.
Все до одной машины вернулись на базу целыми и невредимыми. И вечером в офицерской столовой, приступая к очередным «поминкам», Кумсков присчитал за упокой и ту пару «мессершмиттов», которых подожгли истребители прикрытия.
— На этот раз, — сказал, хрустя огурцом, Кумсков, — не они, а мы их, чертей слепых, прикрывали!
Надо сказать, что слетанность и взаимопонимание, которые вытащили нас, казалось бы, из безнадежного положения., ценились среди летчиков всегда очень высоко. Без них на фронте самое первоклассное летное мастерство немногого стоит. Это понимали все, и в каждой без исключения эскадрилье старались создать костяк из надежных, хорошо чувствующих в воздухе соседа летчиков.
Но сколотить во фронтовых условиях хорошую эскадрилью дело сложное,.. Если наберется четыре-пять хватких, как мы говорили, летчиков — уже хорошо. Обстрелянных, с разносторонним боевым опытом людей никогда не хватало. Особенно трудно приходилось в первые годы войны. Пополнение приходило почти необлетанным: три-пять часов в воздухе без инструктора — вот все, чем мог похвастать в те дни новичок. Правда, начиная с сорок третьего положение изменилось, Выпускники школ, попадая в полк, как правило, насчитывали уже не меньше 20 — 30 часов самостоятельного налета. Тоже, может быть, негусто, но жить можно...
Обычно, отбирая группу на задание, особенно не привередничали, старались обойтись тем, что есть под рукой. Но и одних новичков брать тоже было нельзя: разболтают, развалят строй и в итоге сорвут задание. Поэтому рядом с ведущим непременно ставили летчика посильнее, затем двух-трех послабее, а в хвост опять опытного. Глядишь, группа и сколочена, идет плотно.
И все же фронт не летные курсы; за «инструктора» там — наводчики вражеской батареи или фашистский ас, норовящий поймать тебя в перекрестье прицела пушки. И, как это ни обидно, приходится признать, что становление фронтового летчика в той или иной мере, но неизбежно проходит через беспощадные жернова естественного отбора. Война если и школа, то стихийная, жестокая. До тех пор, пока рвутся в небе снаряды, кому-то приходится умирать. Зато выжившие становятся сильней и неуязвимей. Как к этому ни относись, но логика войны именно такова.
Не миновали, естественно, эти жернова и меня. Но если прежде приходилось расплачиваться за нехватку опыта, то в третий и последний раз подвела беспечность. Та беспечность, которая охватывает иногда в череде удач и, если вдуматься, свидетельствует все о той же незрелости, хотя и не такой явной, хотя и скрытой. В этом смысле многое из того, что нередко относят на счет неизбежных на войне трагических случайностей, на самом деле не является ими, а объясняется завуалированными просчетами или ошибками, которые нужно и можно было предусмотреть...
Стояла весенняя распутица сорок четвертого. Набухшие от дождей и талого снега проселки чавкали густой, жирной грязью, в которой намертво вязли колеса автомашин, гусеницы танков и бронетранспортеров. Выбитые из Винницы немцы, стремясь спасти уцелевшую технику, буквально вцепились в те несколько дорог, у которых имелось твердое покрытие. Гигантские колонны растягивались на несколько километров, представляя собою великолепную мишень для атак с воздуха. Времени упускать было нельзя...
Мы только что вернулись на аэродром, крепко почистив одну из таких колонн, но дело до конца не довели — кончились боеприпасы и горючее.
— Нужен еще вылет, — доложил я командиру полка. — На шоссе пробка: пока не расчистят, деваться им некуда.
До темноты оставалось часа два; получив разрешение, я быстро собрал девятку, спеша накрыть фрицев, пока те не выпутались из затора. Все сошло как нельзя удачно. После нескольких новых заходов остатки колонны можно было списывать в утиль: на шоссе и по обочинам пылали костры из вражеских грузовиков, автофургонов, штабных машин и прочей военной техники, которой кишат во время внезапного отступления прифронтовые дороги.
Назад шли на малой высоте. И не все вместе, а порознь. Не знаю, как кто, но я чувствовал себя выжатым словно лимон: пять вылетов с утра после четырех вчерашних тяжелым свинцом налили руки и тело. Правда, душевный подъем, сопровождающий обычно всякий успех, как бы смывал в сознании усталость, отодвигая ее на потом, но я понимал, что это всего лишь иллюзия. Так или иначе, но хотя бы до линии фронта надо было быть начеку — как-никак, а вражеские зенитки сторожат в небе цель и в дни отступления. Конечно, я не забыл об этом, но тогда — то ли от усталости, то ли, наоборот, ог прилива радостных чувств, а скорее от того и другого вместе — мне показалось, что немцам именно теперь, в данную минуту, не до нас. Слишком крепко им опять досталось. Перебирая в памяти картины отступлении врага, я вел машину, будто в мирное время на пассажирской линии: ровно, спокойно, строго по прямой — как раз так, словно торопился не к себе на аэродром, а в перекрестья прицела батареи противника,
Так оно и случилось.
Уже недалеко от передовой навстречу попалась какая-то деревушка. Не раздумывая, я прошел прямиком сквозь нее и получил в «брюхо» очередь из крупнокалиберного пулемета. Через несколько секунд стало ясно, что разбита водяная помпа мотора. Пришлось садиться на первом попавшемся «пятачке».
— Вот черт! — выпрыгивая из кабины, выругался стрелок-радист Харитонов. — Весь день летали — и ничего. А тут какая-то шальная очередь — и на тебе; топай пешком до аэродрома... Вот уж правду говорят: не повезет так не повезет...
Но я-то знал, что везенье здесь ни при чем. Случайность, если ее можно предугадать, уже не случайность. А чтобы сообразить, что занятую врагом деревню лучше от греха обойти, особой проницательности не требовалось.
— Зачем же пешком? — кляня себя в душе за легкомыслие, откликнулся я. — Взгляни-ка, фашисты тут целый автопарк бросили. Выбирай любую — и поехали.
Метрах в двухстах от нас, по обе стороны разбитой в пух и в прах, затопленной грязью проселочной дороги виднелось скопище немецких машин. Попадались среди них и исправные, вполне приличной по военным меркам сохранности.
Не прошло и четверти часа, как мы успели присмотреть добротный фиатовский грузовик и совсем уж великолепный экземпляр четырехместного «мерседеса» с пружинящими креслами, обтянутыми темно-красной кожей. Обе машины оказались на ходу. Видимо, их бросили здесь в спешке, сразу, едва кончилось горючее. Для нас же бензин не проблема — стоило лишь слить его из самолетных баков. Но уехать мы все равно не могли. По такой дороге не то что «мерседесу» — гусеничному тягачу не пройти. Ночью, когда грязь подмерзнет, тоже нельзя: пришлось бы включать фары. Оставалось одно — ждать утренних заморозков. Если, конечно, они будут...
Заморозков не было два дня; по ночам, наоборот, хлестали дожди. Ночевали в крохотном хуторке, который немцы бросили буквально за несколько часов до нашей вынужденной посадки. Днем Харитонов, бывший шофер, учил меня на подсохшей стороне отлогого косогора водить машину. Наука оказалась нетрудной, но проку от нее было мало. Раскисшая, как подтаявший холодец, дорога не дала бы продвинуться и на десяток метров.
На рассвете третьего дня я решил добираться до своих пешком. Ждать дольше, когда каждый летчик на счету, преступление.
— Все равно на своих двоих раньше меня не доберетесь. До аэродрома километров сорок, не меньше! — попытался отговорить Харитонов. — Ну да ладно, держитесь дороги; ударят заморозки — подберу.
Мы сняли с самолета рацию и вооружение, погрузили все в кузов заправленного авиационным бензином «фиата»; туда же загнали по покатям «мерседес» — жаль показалось оставлять такого красавца — и распрощались. Харитонов остался ждать заморозков, а я, чертыхаясь и проваливаясь но колено в грязь, зашагал вдоль обочины.
Вновь встретились мы недели через полторы. Догнать ему меня так и не удалось; выбравшись на шоссе и подсаживаясь на попутные, до аэродрома я добрался на вторые сутки. Харитонов же, как я и думал, застрял.,. Пока он там воевал с распутицей, пробираясь к аэродрому, судьба, замысловатая, путаная, не признающая никаких правил и никакой логики, фронтовая судьба уже готовила для меня еще одну встречу. Причем такую, какие часто случаются в кино или на страницах романа, но крайне редко в самой жизни.
далее