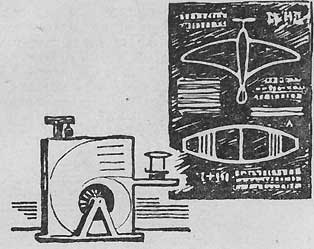
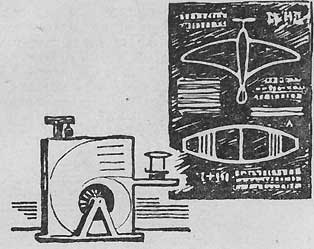
— Странная дилемма! — удивится читатель. — Конечно, космос! Да можно ли было в этом сомневаться?
Сегодня сомневаться действительно не приходится. Но перенесемся на три четверти века назад. Зададим тот же вопрос ученым.
— Разумеется, аэростат! — ответило бы большинство из них. Воздухоплавание — дело реальное, перспективное, это же ясно каждому. Почитайте, что пишет о нем Дмитрий Иванович Менделеев, посмотрите, как с его легкой руки растет в России интерес к проблеме полета...
И, заканчивая свою тираду, ваш собеседник, вероятно, добавил бы:
— Что же касается свободного пространства, это... Извините, это слишком туманно и чересчур проблематично!
Впрочем, строго говоря, пожалуй, неправильно формулировать дилемму, возникшую перед Циолковским: атмосфера или космос. Для него она заключалась в другом — начинать с большого или с малого? Сразу ли с межпланетного пространства или же поначалу с покорения атмосферы?
«Мысль о сообщении с мировым пространством не оставляла меня никогда», — неоднократно подчеркивал Циолковский. Не покидала его эта мысль и в годы борьбы за аэростат, борьбы, как мы сейчас увидим, самоотверженной и не легкой. Ведь, принимаясь за аэростат, Циолковский хотел лишь одного — поскорее подняться на очередную ступеньку великой лестницы, в космическое пространство.
Возвращаясь после уроков, утомленный Константин Эдуардович садился за расчеты. Теперь космос снова казался каким-то далеким. Голова занята лишь одним: аэростат, удивительный аэростат с прочной металлической оболочкой.
Он работал жадно, а времени не хватало. Слишком много часов уделялось ученикам на протяжении дня. Дня... А если работать с утра? Циолковский стал подниматься чуть свет. Отдав несколько часов проекту, он уходил на занятия.
И так продолжалось два года...
Разрабатывая свою идею, Константин Эдуардович яростно ополчился на многие принципы дирижаблестроения, считавшиеся незыблемыми. Прежде всего он восстал против мягкой оболочки. Долой, долой этот прорезиненный мешок, наполненный легким газом!
— Летать на таких аппаратах рискованно! — убежденно доказывал Циолковский. — Едва приметная искра — пожар, катастрофа.
История воздухоплавания еще не знала такого рода трагических происшествий. Но Циолковский упорно стоял на своем. Его пророчество сбылось через несколько лет.
Итак, цельнометаллический дирижабль, способный по мере набора высоты, а следовательно и уменьшения плотности воздуха, менять объем. Развивая эту идею, Циолковский не знал усталости. Ножницы кроили жесть. Шипело олово, стекая с паяльника. А вместе с грудой моделей росли и крепли слухи о чудаковатости учителя арифметики и геометрии.
Именно эти слухи привели на квартиру Циолковских Павла Михайловича Голубицкого, интеллигентного, не чуждого науке чиновника. Наслышавшись о необычном изобретателе, Голубицкий сказал своей гостье, знаменитому математику Ковалевской:
— Я обязательно с ним познакомлюсь!
— Так за чем же дело? — удивилась Софья Васильевна. — Поезжайте в Боровск и пригласите его в гости...
Почувствовав неподдельный интерес Голубицкого к проекту аэростата, Константин Эдуардович охотно познакомил его со своими идеями, показал домашнюю лабораторию. Внимательно и сочувственно выслушал Голубицкий рассказ о мытарствах Циолковского. Ведь он сам был изобретателем, последовательно и упорно разрабатывавшим конструкцию телефона. А в то время беседа по проводам была не меньшей фантастикой, чем управляемый полет.
Однако, любезно приняв Голубицкого, Константин Эдуардович решительно отверг его настойчивые приглашения. Не помогло и упоминание о Ковалевской. Конечно, он много слышал о Софье Васильевне. Да кто же не знает эту замечательную женщину, так прославившую своими исследованиями русскую науку. Кому не лестно с ней познакомиться! Но в гости, извините, он не поедет! Нет, нет! И уговаривать не надо. Он глух, светские визиты ему не по силам.
Знакомство с провинциальным изобретателем произвело на Голубицкого сильное впечатление:
— Вы только подумайте, — рассказывал он Ковалевской, — с одной стороны, крайняя простота приемов, моделей, с другой — важность выводов! Невольно припоминались Ньютон, Майер и другие великие ученые. Из пустячного опыта они делали научные выводы неоценимой важности. Да, впрочем, кто же не знает, что дело не в цене скрипки, а в таланте музыканта!
Этому человеку обязательно надо помочь! — заметила Ковалевская. — А что, если рассказать о его работах кому-нибудь из физиков?..
Прошло немного времени, и Александр Григорьевич Столетов с Николаем Егоровичем Жуковским слушали про необычного фантазера-учителя.
— Не так давно волей случая, — рассказывал Голубицкий, — попал я в городок Боровск. Сотня верст от Москвы, а глушь несусветная! Кругом старообрядцы, строгие, нелюдимые. И вот здесь, в этой глуши, живет учитель... Он искренне верит, что воздушные корабли скоро понесутся, куда только захотят люди...
Я решил навестить изобретателя и, сознаюсь, пришел в ужас: маленькая квартирка, большая семья, бедность из всех щелей, а посередине разные модели. Хозяин глух, а потому крайне застенчив. Но мысли!.. Здравые и крайне интересные. Как хорошо было бы пригласить этого человека в Москву!..
И вот Циолковский в Москве. Столетов пригласил его в Физическое отделение Общества любителей естествознания доложить о своем цельнометаллическом дирижабле. В потертом дешевом костюме, худой и бледный, стоял он в одной из аудиторий Политехнического музея. Внимание Столетова, Жуковского, Вейнберга, Михельсона и других ученых поддерживало и ободряло.
Но все же Циолковский чувствовал себя не очень уютно в просторном зале с натертым до блеска паркетом. На полу отражались молочно-белые шары люстр. Перед столом, накрытым добротным канцелярским сукном, сидели слушатели. Портреты особ царствующей фамилии строго и, казалось, с неодобрением смотрели из резных массивных рам.
Но, начав свой доклад, Циолковский забыл обо всем, кроме дирижабля.
— Восемнадцатый век, — говорил он, заражая своей убежденностью слушателей, — оставил людям мечты о птицеподобном летательном снаряде и аэростат, по произволу поднимающийся и опускающийся. Девятнадцатый век, век попыток и теорий, одну из коих я и хочу изложить вам, милостивые государи!
Для воздушного транспорта я предлагаю металлические аэростаты. Кроме наружного облика, они имеют мало общего с существующими газовыми воздушными кораблями. В зависимости от температуры и давления как окружающего воздуха, так и газа, наполняющего оболочку, объем и форма корабля свободно меняются. Но оболочка не разрушается, ибо она сделана из жесткого гофрированного металла.
Чем дальше разъясняет Циолковский устройство своего необычного судна, тем тверже его голос, тем взволнованнее и увлеченнее рассказ.
Веры в будущее аэростатов у него хоть отбавляй. И картины этого будущего он рисует достаточно ярко.
— Перевозка людей и грузов на таких аэростатах, по расчетам, в десятки раз дешевле, чем на железных дорогах и пароходах. Предлагаемые конструкции не требуют ни дорогих верфей для постройки, ни ангаров для хранения. Им достаточно пристаней в виде ущелий, долин и площадок, защищенных от ветра холмами, зданиями или деревьями.
Внимательно слушали ученые своего провинциального коллегу. Сообщение Циолковского заинтересовало их. Сам же Константин Эдуардович считал свой труд далеко не завершенным. Хорошо бы добиться перевода в Москву. Здесь можно продлить исследование, подкрепить его серьезной научной консультацией. Но перевод в Москву дело нелегкое...
Надежда, эта извечная спутница искателей нового, крепнет в душе Циолковского: Александр Григорьевич Столетов обещал поддержку. Ощущая дружелюбие великого физика, зная об огромном авторитете Столетова, Циолковский надеется...
Радостный, взволнованный, полный веры в завтрашний день, возвратился Константин Эдуардович из Москвы. Устав от множества впечатлений и тряской ухабистой дороги, он заснул как убитый. Сон был тревожный. Вдруг отчетливо почувствовался запах гари. Огромный, пылающий, словно факел, дирижабль быстро снижался прямо на толпу. Послышались страшные вопли:
— Пожар! Пожар!..
Истошный крик разбудил Циолковского. Кричала Варвара Евграфовна. Запах гари висел в воздухе наяву. От вспыхнувшего соседского сеновала огонь уже перекинулся к квартире ученого.
«Бом! Бом! Бом!» — настойчиво звал на подмогу пожарный колокол.
Жители окрестных улиц гурьбой бежали на его призыв. Пожары в Боровске не были редкостью. Законы старообрядчества запрещали курить «поганое зелье». Молодые любители запретного плода прятались от строгих стариков в укромных местечках. Их неосторожность не раз приносила беду.
Добровольцы-пожарники помогли Варваре Евграфовне и Константину Эдуардовичу выбраться из горящего здания. Отдельные смельчаки пытались выбрасывать вещи. Но почти все имущество погибло в огне. Из приметных вещей уцелела лишь швейная машина, спасенная каким-то энергичным доброжелателем.
Огонь полыхал над домиком. Со свистом рушились балки. Фейерверком взлетали снопы искр. Все ценное, чем обладал молодой ученый, — большая часть его библиотеки и рукописей, модели, инструменты безвозвратно погибли. За первым ударом вскоре последовал второй: перевод в Москву не состоялся. Не помогли и связи Столетова. Циолковский заболел и на время прервал свои научные исследования.
Но все же оптимизм одержал верх над черными мыслями. Разве все потеряно? Ему всего тридцать лет. Рукопись «Теория аэростата», которой отдано так много труда, не сгорела, она в Москве, у профессора Жуковского. Еще кое-какие работы уцелели от огня. Нет, случайностям не сломить его. Он будет продолжать свою работу!..
Поиски квартиры вновь возвращают погорельцев в тот край города, где семь лет назад познакомились Константин Эдуардович и Варвара Евграфовна. Снова они на самом берегу Протвы. На улице со смешным названием Круглая снят первый этаж домика огородницы Помухиной. Место было тихое. Улица оживлялась лишь по праздничным дням, когда в маленький домик с крестом на двери тянулись люди. В домике располагалась молельня старообрядцев.
Близость реки несколько смущала осторожную Варвару Евграфовну. Едва успев прийти в себя после пожара, она вовсе не спешила попасть в наводнение. Но хозяйка успокаивала.
— У нас такого не бывает...
Однако вопреки уверениям «такое» все же случилось. Весной 1889 года, когда Протва раскрылась ото льда, где-то внизу образовался затор. Ледяная плотина направила воду прямехонько на боровские домики, в том числе и тот, где квартировал Циолковский.
«Отец набросал на пол дров, сверху положил доски, переходил по этим мосткам и доставал нам плавающие нужные вещи... Мимо окон плыли громадные льдины. Страшно было ночью. Мы не спали...» — так вспоминает часы, проведенные в водяной осаде, старшая дочь Циолковского Любовь Константиновна.
Вода вскоре сошла. Но наводнение оставило неприятное наследство — промозглую, невыветривающуюся сырость. И снова на подводах скарб Циолковских. Они переезжают в центр города, на Молчановскую улицу, в квартиру, которую подыскал друг и сослуживец Константина Эдуардовича Евгений Сергеевич Еремеев.
Движимый желанием как можно отчетливее представить себе события давно минувших лет, я приехал в Боровск. Столетние березы окаймляли серую полоску асфальта, которая вела в город юности Циолковского. Справа возвышались сооружения Пафнутьева монастыря: они хранили еще следы боев Великой Отечественной войны.
С берега Протвы трудно было не залюбоваться городом. Центр его, отмеченный шпилем колокольни, лежал впереди, на крутом противоположном берегу. Несмотря на очень широкую пойму, Протва выглядела маленьким быстрым ручейком. Какой-то шофер мыл измазанный грузовик, загнав его прямо в воду по самые оси. Неторопливо плыла стайка гусей — их белые спины были перепачканы фиолетовыми метками канцелярских чернил. Одинокий рыболов с безнадежной грустью следил за поплавком своей удочки.
Сотня метров в сторону, и, повторяя изгибы реки, протянулась та самая улица Круглая, где стоял дом Помухиной — ныне улица Циолковского.
Чтобы представить себе, как жил здесь три четверти века назад Константин Эдуардович, вовсе не обязательно обладать богатым воображением. И не будь столбов с электрическими проводами да антенн, улавливающих телевизиоиные передачи Москвы, приезжий чувствовал бы себя путешественником в XIX век. После обильных дождей на улице властвовала непролазная грязь. Как и сто лет назад, копошились куры, гуси и утки. Высокие, в полтора человеческих роста, заборы тянулись от дома к дому, закрывая дворы от постороннего взгляда. Затейливая резьба украшала наличники окон.
Попытки обнаружить дом Помухиной, где наводнение застало семью Циолковских, оказались не из легких. Далеко не все обитатели улицы знали, где жил тот, чье имя она носит. Не будь у меня небольшой книжечки Н. Маслова «Памятные места, связанные с именем К. Э. Циолковского», вряд ли удалось бы разыскать обветшавший, старенький домишко. Мемориальной доски на нем не оказалось. Старая женщина, вышедшая из ворот, увидев, что я фотографирую ее жилье, вступила в разговор. Она была очень удивлена, узнав, что Циолковский жил именно здесь, в ее доме. Скептически поджав губы и отрицательно покачав головой, женщина сказала, что такого не помнит, хотя и живет здесь без малого сорок лет.
Я уходил с Круглой улицы тем же путем, каким шла семьдесят с лишним лет назад семья Циолковских. А буквально за углом меня ожидала неожиданность: свернув в переулок, я прочитал на одном из домов его название «улица Разина». Надеюсь, читатель поймет мое волнение - на этой улице нашел Циолковский свое первое пристанище в Боровске. Здесь, совсем рядом с домом Помухиной, стоял когда-то дом Соколова. Увы, он не сохранился до наших дней.
Оглянувшись на круто сбегавшую к Протве улочку (не зря во времена Циолковского ее звали Крутихой), я поднимаюсь вверх. Затем спуск к мосту, и вот уже Октябрьская улица — тогда ее называли Молчановкой, — где поселилась, уехав с Круглой, семья Циолковских.
«Мы, дети, радовались, — вспоминала Любовь Константиновна Циолковская, — квартира из трех комнат — такого громадного помещения у нас еще никогда не бывало. И главное — каменный дом: в огне не сгорит и водой не затопит».
Квартира действительно хороша. У Константина Эдуардовича даже появился рабочий кабинет — большая светлая комната. Одно лишь худо: дорого пришлось платить за нее — шесть рублей в месяц, четвертую часть жалованья.
Теперь вся жизнь Боровска (ее картину доносят воспоминания дочери ученого) текла перед глазами Циолковских. Правда, в летние месяцы даже и на центральной улице было тихо. Огородники, а именно они составляли большую часть жителей города, разъезжались на работу. Жизнь замирала. Лишь изредка прогромыхает подвода, промчится лихой купеческий тарантас или переругаются бараночники, сноровисто бросающие колечки теста в крутой кипяток и ловко сажающие в печь баранки и бублики. Но это был центр — и островерхая колокольня, и торговые ряды базара, главные атрибуты богомольного провинциального городка, располагались рядом. Зато зимой все преображалось. Становилось пьяным-пьяно. Играли свадьбы. Богато разукрашенные санки провозили напоказ приданое.
«Знай наших!..» — словно кричали встречным санные поезда. Прохожие останавливались и смотрели — ведь свадьбы и гулянки — единственное развлечение в медвежьем углу, расположенном совсем рядом с Москвой.
Звериные нравы зимнего Боровска были весьма необузданны. Даже видавший виды репортер одной из калужских газет, приехавший, чтобы набросать картинки уездной жизни, растерянно писал: «Крик и пьяная песня не смолкают ни днем ни ночью, трактиры работают на славу, ссудная касса наживает громадные деньги, немногочисленная полицейская команда разрывается на части, чтобы пресечь возможные скандалы и преступления, но тщетно — городской судья и судебный следователь в зимнее время по горло завалены делами».
Впрочем, не страсти главной улицы отравляли Циолковскому жизнь на новой квартире. С переездом в центр одолела другая напасть: ему стали докучать визитеры.
«Принимала визитеров мать, — вспоминает Л. К. Циолковская. — Помню мое полное недоумение, когда боровский обыватель, надушенный, в воротничке и манжетах, в наваксенных сапогах, с котелком или с цилиндром в руках, садился на стул, справлялся о здоровье каждого из членов семьи и минут через пять церемонно откланивался».
Такого рода визиты, а иных в Боровске не признавали, были пустым времяпрепровождением. Терять же время зря Константин Эдуардович очень не любил. Вот он и решил перехитрить визитеров: вставать на праздники пораньше, работать часов до двенадцати, а затем уходить из дому.
Но однажды Циолковский принял визитера совершенно иначе. Жизнерадостный, загорелый, пришел к нему на квартиру человек, черты которого показались удивительно знакомыми. А когда приезжий отрекомендовался, Циолковский так и всплеснул руками:
— Саша! Ты ли это?..
Да, это действительно был Саша Спицын, с которым дружили в гимназии братья Циолковские. Спицын еще тогда увлекался историей — гимназисты узнавали от него о множестве интересных вещей. Выслушав рассказ Константина Эдуардовича о его жизни в Боровске, Александр Андреевич охотно сообщил, что за причины привели его сюда. Все объяснялось просто: он стал археологом.
Нет, не Боровск старообрядцев и подгулявших купцов интересовал Спицына. Увлеченно рассказывал гость о том далеком Боровске, который был почти неведом семье Циолковских. И подумать только: тут, где торгуют нынче конопляным и льняным семенем, холстом и кожами, где разводят сады и огороды, гарцевали когда-то дружины Дмитрия Донского и его сподвижника по битве на Куликовом поле Владимира Андреевича Хороброго! А монастырь! Основанный в XV веке, он сто лет спустя был превращен в крепость, и кем превращен! Его стены возводил Федор Конь, легендарный строитель древних русских бастионов. В этих стенах бился против польских панов и Тушинского вора воевода Михаил Волконский.
Да, все это было... А сейчас (Циолковский снял с полки седьмой том Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона) в Боровске, пришедшем в изрядное запустение, проживают 2 120 купцов и 5 тысяч мещан, насчитывается 9 церквей, 1 046 домов, из коих 110 каменных, парусная да шелковая фабрика московского купца Протопова.
Нет, не в лучшие для города времена жил в нем Циолковский.
Спицын побывал в Боровске недолго. Вскоре он уехал, и Циолковский вновь углубился в размышления о металлическом аэростате. Мысль зрела, крепла, принимала все более и более осязаемые формы...
Наконец работа завершена. Но кто же оценит ее? Кто поможет чертежам учителя арифметики и геометрии превратиться в блестящие металлические конструкции? Циолковский знает: нет у воздухоплавания в России большего ратоборца, чем Менделеев. Он посылает рукопись именно ему — лично Менделееву. А вместе с рукописью вкладывает в пакет небольшую модель оболочки, способной изменять объем, выклеенную из бумаги.
Коротенькая записка, которой Менделеев сопроводил эти материалы, пересылая их в Русское техническое общество, свидетельство его доброжелательности к неведомому изобретателю. Вот что писал он члену общества В. И. Срезневскому:
«Милостивый государь Вячеслав Измаилович!
Согласно с желанием г. Циолковского (оч.[ень] талантливого господина) препровождаю в Техническое общество: 1) его письмо, 2) тетрадь его исследования о форме складного металлического аэростата и 3) бумажную модель к проекту г. Циолковского.
С почтением готовый к услугам Д. Менделеев».
В письме, о котором упоминает Менделеев, Константин Эдуардович просил VII отдел «пособить ему по мере возможности материально и нравственно». Триста рублей, о которых хлопотал боровский учитель, не составляли для общества крупной суммы. И, вероятно, ему бы их дали, если бы не принципиальные расхождения.
Через четыре дня после того, как Менделеев переслал бумаги в Русское техническое общество, один из его видных членов, военный инженер Евгений Степанович Федоров, уже написал свое заключение. Нет, в практическое значение этого проекта он не верил, хотя и счел необходимым отметить толковое и ясное изложение провинциального автора.
«Энергия и труд, потраченные г. Циолковским на составление проекта, — писал Федоров, — доказывают его любовь к избранному им для исследования предмету, в силу чего можно думать, что г. Циолковский со временем может оказать большие услуги воздухоплаванию и потому вполне заслуживает нравственной поддержки со стороны Технического общества».
Проект Циолковского попал к специалисту, отлично знавшему свое дело. Дело в том, что Федоров тоже успел воздать должное управляемым аэростатам. В 1887 году он сам спроектировал небольшой воздушный корабль, но, ознакомившись с отзывами специалистов, быстро понял несостоятельность своей идеи. Спор между аэростатами и аэропланами, год от году приобретавший все более острый характер, побудил Федорова к ряду серьезных исследований. Он вычислил работу, затрачиваемую птицей в полете, ставил опыты с воздушными змеями, изучал эксперименты Лилиенталя, предлагая повторить их в России, провел опыты по изучению сопротивления воздуха. Одним словом, в 1890 году с проектом Циолковского знакомился уже энергичный поборник летательных аппаратов тяжелее воздуха и столь же убежденный противник аэростатов.
К чести Федорова, резко критикуя научные идеи Циолковского, он держался по отношению к нему корректно, доброжелательно и, я бы сказал, очень человечно. Когда 23 октября 1890 года VII отдел собрался на заседание, Федоров снова подчеркнул энергию провинциального изобретателя, его любовь к своему делу. Увы, в глазах Циолковского эта доброжелательность выглядела подслащенной пилюлей. Ведь и Федоров и второй оппонент, А. М. Кованько, единодушно отрицали аппараты, в будущее которых так искренне верил Циолковский.
Судьбу проекта решили без долгих дискуссий. В начале декабря делопроизводитель VII отдела В. А. Семковский переслал Константину Эдуардовичу доклад Федорова, сопроводив его следующим письмом:
«Милостивый государь!
VII отдел императорского Русского технического общества в заседании своем от 23 октября, подробно рассмотрев представленный вами через профессора Менделеева проект построения металлического аэростата, способного менять свой объем, постановил, что проект этот не может иметь большого практического значения, почему просьбу вашу о субсидии на постройку модели отклонить.
Вместе с сим постановлено препроводить вам доклад по VII отделу о вашем проекте. В Европе и Америке было сделано несколько попыток строить металлические аэростаты, не приведших ни к каким результатам...»
А спустя несколько дней появились и сообщения в газетах*. «Учитель уездного Боровского училища (в Калужской губернии) г. Цанковский, — писали «Новости дня», — составил проект постройки аэростата. Проект этот рассматривался в Техническом обществе в Петербурге. Проверив математические выкладки г. Цанковского, общество нашло, что они произведены верно и что идеи г. Цанковского правильны; но в денежной субсидии, которой домогался г. Цанковский для осуществления своего проекта, общество ему отказало на том основании, что прожектёром не приняты во внимание все могущие возникнуть при осуществлении проекта трудности...»
* Высказывания газет о проекте Циолковского цитируются по вырезкам, сохранившимся среди бумаг ученого. Эти вырезки ныне хранятся в Архиве Академии наук СССР. Опечатка в фамилии допущена газетой.
«Новостям дня» вторила газета «Сын отечества»: «По мнению г. Федорова, конструкция аэростата вследствие его крупных размеров плоха, прожектёром не приняты во внимание трудности сцепления и спайки тонких медных листов оболочки аэростата. Летать на таком аэростате опасно: оболочка может легко дать трещину...»
Отклонить! Воздухоплаватели из Петербурга отвергли его идею. Мало того, они еще отчитали его как школьника, как мальчишку и неуча! Циолковский закусывает губу. Обидно, очень обидно!.. Но что же делать? Прежде всего ответить. Ответить вежливо и корректно.
Размашисто обмакнув перо в чернильницу, Константин Эдуардович отвечает Семковскому:
«Милостивый государь Викентий Антонович!
Позвольте через Ваше посредство выразить императорскому Русскому обществу мою благодарность за оказанное мне внимание.
Примите уверения в совершенном моем к Вам уважении.
Константин Циолковский».
Даже эти несколько строк дались с трудом. Циолковский напряг все свои силы, чтобы написать их и отослать в Петербург. Нельзя, чтобы там, в VII отделе, хотя бы на секунду ощутили, какую бездну огорчений принесло их письмо провинциальному изобретателю.
Трещит мороз, разрисовывая окна. Завывает в трубе декабрьская вьюга. Но еще громче трещат дрова в печи. Разгораясь, они согревают бедную чистенькую квартирку.
Грустно и тяжело Циолковскому. Нет уже больше сил молчать. Потребность высказаться, поделиться с тем, кто поймет и разделит огорчения, обуревает его. И он начинает второе письме. На этот раз в Москву — Александру Григорьевичу Столетову.
«Моя вера в великое будущее металлических управляемых аэростатов все увеличивается и теперь достигла высокой степени. Что мне делать и как убедить людей, что «овчинка выделки стоит»? О своих выгодах я не забочусь, лишь бы дело поставить на истинную дорогу.
Я мал и ничтожен в сравнении с силой общества! Что я могу один!.. Отправить рукопись в какое-нибудь ученое общество и ждать решающего слова, а потом, когда ваш труд сдадут в архив, сложить в унынии руки — это едва ли приведет к успеху...»
Пожалуй, отмечая энергию Циолковского, Федоров вряд ли предполагал, сколь она велика. Нет, Циолковский не смирился! Его не причислишь к тем, кто безропотно верит приговорам авторитетов, формулы и расчеты для него самый строгий судья, а они (это засвидетельствовал в своем заключении и Федоров) безупречны.
Часами просиживает Циолковский за письменным столом. Он просто не в силах отогнать мысли о будущем аэростатов. В соседней комнате горит керосиновая лампа, Варвара Евграфовна штопает прохудившееся белье. Младшие дети тихонько играют тележками, которые вырезала из бумаги мать. В доме очень тихо... Бездействие надоедает детворе. Однако Варвара Евграфовна быстро водворяет порядок. Не отрываясь от шитья, она начинает рассказывать сказку, а за дверью скрипит перо, разбрызгивая чернила...
Далеко от земли унесся в своих мыслях Циолковский. Все доводы в защиту цельнометаллического аэростата, всю страсть к своему детищу поверяет он бумаге. О, как нужна ему поддержка! И он находит ее. Находит тут же, в Боровске, у друзей, сочувствующих его необычным замыслам. Иван Александрович Казанский — служащий казначейства, учитель Сергей Евгеньевич Чертков, купец Николай Поликарпович Глухарев складываются по тридцать рублей. Оказывает материальную поддержку один из братьев Циолковского, что-то добавляет и сам Константин Эдуардович. Как говорится, «с миру по нитке — голому рубашка». Циолковский заказывает Московской типографии М. Г. Волчанинова свою первую книгу: «Аэростат металлический управляемый».
А затем наступает день, наполняющий молодого учителя ощущением блаженства. Ему приносят оттиски. Сняв соринку с пера, он приступает к правке корректуры книги...
Но счастливый день наступил уже после того, как нарушилась привычная размеренная жизнь и семья Циолковских переехала из Боровска в Калугу. Переезд произошел неожиданно — Константина Эдуардовича перевели по службе. Почему? Этого никто не знает. То ли помогло вмешательство Столетова? То ли (если верить Варваре Евграфовне) смотритель Калужского училища Рождественский, понаслышав о Циолковском хорошего, решил перевести его в Калугу? Высказывания Константина Эдуардовича и его близких крайне противоречивы. Бесспорно лишь одно: известие о переводе нагрянуло неожиданно и не вызвало у Циолковского большого восторга. По-видимому, решающую роль сыграли отношения с начальством и некоторыми учителями. Отношения эти, как мы знаем, были не из лучших. «Они брали взятки, продавали учительские дипломы сельским учителям и т. д., — писал Константин Эдуардович.— Я ничего долгое время не знал, по своей глухоте, об этих проделках. Потом все же по мере возможности препятствовал нечестным поступкам. Поэтому товарищи мечтали сбыть меня с рук! Это и совершилось со временем».
Но независимо от причины перевода пришлось переезжать. Спешно продаются вещи — с собой будет взято лишь самое необходимое. Приходят прощаться ученики. Не без грусти расстаются они с любимым учителем. Кто-то из друзей засовывает в лубяной возок коробку с конфетами, другой приносит икону святого Константина и произносит прочувственную речь. Ученики хором поют «Многая лета». Все машут руками.
— Трогай с богом! — говорит Варвара Евграфовна вознице.
И семейство Циолковских навсегда расстается с Боровском.
В возке душно. Варваре Евграфовне становится плохо. Ничего не сделаешь, надо терпеть, терпеть хотя бы до Малоярославца. В Малоярославце, ближайшем городе на пути к Калуге, остановка. Константин Эдуардович, изрядно уставший от дорожных хлопот, бежит к станционному смотрителю. Договорился. Возок заменили двумя открытыми санями. Стало прохладнее, но сказать, чтобы приятнее — едва ли. Сани бросает на ухабах, заносит в сугробы.
Но вот в ночной темноте вспыхнул огонек. Один, второй, третий... С каждой минутой огоньков становилось все больше и больше. Путникам казалось, что огромный город, притаившийся во мраке, вдруг решил посмотреть на них всем множеством глаз. Впрочем, после Боровска Калуга могла показаться огромной. Одних церквей святого Георгия в ней было три. Квартира, заранее снятая для Циолковских их друзьями, размещалась напротив одного из Георгиев. Путники изрядно проплутали по городу, прежде чем добрались до долгожданного тепла. Но вот они и дома. Убаюкивающе-ласково кипит самовар. Дома... Согреваясь чайком, разморенные дорогой, Циолковские рады, что большая часть хлопот уже позади. Еще день, другой, и жизнь входит в привычную колею.