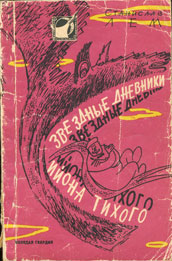

Станислав Лем.
ЗВЕЗДНЫЕ ДНЕВНИКИ ИЙОНА ТИХОГО
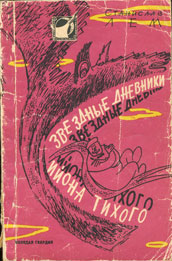

ПРЕДИСЛОВИЕ писание доблестей Ийона Тихого, имя |
Совокупность «Дневников», насчитывающих 87 томов ин-кварто, с картами всех путешествий и приложениями (звездным словарем и ящиком с образцами), находится в обработке у группы ученых — астрогаторов и планетников; вследствие огромного объема необходимой работы они выйдут еще не скоро. Полагая, что таить великие открытия Ийона Тихого от широчайших слоев читателей было бы неуместно, издатель выбрал из «Дневников» небольшие отрывки и выпускает их в необработанном виде, без сносок, примечаний, комментариев и словаря космических выражений.
В подготовке «Дневников» к печати мне не помогал никто; тех, которые мне мешали, я не перечисляю, так как это заняло бы слишком много места.
АСТРАЛ СТЕРНУ ТАРАНТОГА, профессор Космической зоологии, Университет Фомальгаута |
ПУТЕШЕСТВИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ ероятно, ни в каком путешествии я не |
Кроме того, он создал аппаратуру для использования бесполезно растрачиваемой (обычно) энергии детей, которые, как известно, ни минуты не могут обойтись без движения. Эта аппаратура представляет собой систему торчащих в разных местах жилища рукояток, блоков и рычагов; играя, дети толкают их, тянут, передвигают и, таким образом, сами того не зная, накачивают воду, стирают белье, чистят картофель, вырабатывают электричество и т. д. Заботясь о младшем поколении, остающемся иногда в жилище без присмотра, профессор изобрел незагорающиеся спички, выпускаемые сейчас на Земле в массовом порядке.
Однажды профессор показал мне свое последнее изобретение. В первый момент мне показалось, что я вижу перед собой обыкновенную железную печурку. Тарантога признался, что именно этот предмет он и положил в основу своего изобретения.
— Это, дорогой Ийон, извечная мечта человечества, получившая реальнее воплощение, — пояснил он, — а именно — это удлинитель или, если хочешь, замедлитель времени. Он позволяет продлить жизнь на сколько угодно. Одна минута внутри него длится около двух месяцев, если я не ошибаюсь в расчетах. Хочешь испробовать?
Любопытный, как всегда, к новинкам техники, я кивнул головой и охотно втиснулся в аппарат. Едва я там уселся, как профессор захлопнул дверку. У меня зачесалось в носу, так как сотрясение, с каким печурка закрылась, подняло в воздух невычищенные остатки сажи, так что, втянув их с воздухом, я чихнул. В этот момент профессор включил ток. Вследствие замедления времени мой чих продолжался пять суток, и, открыв дверку, Тарантога нашел меня почти без чувств от изнеможения. Он удивился и встревожился, но, узнав, в чем дело, добродушно усмехнулся и сказал:
— А в действительности по моим часам прошло только четыре секунды. Ну, что ты скажешь, Ийон, о моем изобретении?
— Сказать по правде, мне кажется, что оно еще не усовершенствовано, хотя и заслуживает внимания, — ответил я, как только мне удалось отдышаться.
Достойный профессор несколько опечалился, но потом великодушно подарил аппарат мне, объяснив, что он может служить одинаково и для замедления и для ускорения хода времени. Чувствуя себя несколько усталым, я временно отказался испытывать второе свойство удивительной машины и отвез ее к себе. По правде говоря, я не очень ясно представлял себе, что должен с нею делать, а потому поставил ее на крыше своего ракетного ангара, где она пролежала с полгода.
Работая над восьмым томом своей знаменитой «Астрозоологии», профессор ознакомился с материалами, касающимися существ, живущих на Амауропии. Ему пришло в голову, что они являются великолепными объектами для испытания замедлителя (а также ускорителя) времени.
Ознакомившись с его проектом, я так увлекся им, что в три недели собрал запас горючего и провианта, а затем, захватив с собою карты этого малоизвестного мне района Галактики и аппарат, вылетел, не медля ни минуты. Это было тем разумнее, что перелет на Амауропию продолжается около тридцати лет. О том, что я делал все это время, напишу где-нибудь в другом месте. Упомяну только об одном из наиболее крупных событий, каким была в районе ядра Галактики (кстати сказать, навряд ли можно встретить другое такое запыленное место!) встреча с племенем межзвездных бродяг, называемых Выгонтами.
У этих несчастных вообще нет родины. Зато фантазия у них, мягко выражаясь, богатая, так как почти каждый из них рассказывал мне историю племени по-другому. Позже я слышал, что они попросту растранжирили свою планету, по великой алчности своей хищнически разрабатывая ее недра и экспортируя различные минералы. В конце концов они так изрыли и перекопали всю внутренность планеты, что вовсе разрушили ее; в результате от нее осталась только большая яма, рассыпавшаяся у них под ногами. Некоторые, правда, утверждают, что Выгонты, отправившись однажды на пирушку, попросту заблудились и не смогли вернуться домой. Неизвестно, как там было на самом деле, но, во всяком случае, никто этим космическим бродягам не бывает рад; если, блуждая в космосе, они наткнутся на какую-нибудь планету, то вскоре всегда оказывается, что там чего-нибудь не хватает: либо исчезла часть воздуха, либо вдруг высохла река, либо недосчитаешься острова.
Однажды на Арденурии они слизнули целый материк,— хорошо, что непригодный, обледеневший. Они охотно нанимаются для чистки и регулировки лун, но мало кто доверяет им столь ответственные работы. Их детвора закидывает кометы камнями, катается на старых метеоритах — словом, хлопот с ними полон рот. Я увидел, что мириться с такими условиями существования нельзя; прервав ненадолго путешествие, я взялся помочь им, и так успешно, что мне удалось достать по случаю еще совершенно пригодную для употребления луну. Ее подремонтировали и благодаря моим связям произвели в ранг планеты.
Правда, на ней не было воздуха, но я объявил складчину; окружающие жители сложились — и нужно было видеть, с какой радостью вступили почтенные Выгонты на свою собственную планету! Благодарностям их не было конца. Сердечно попрощавшись с ними, я пустился в дальнейший путь. До Амауропии было теперь не более шести квинтильонов километров; пролетев этот последний отрезок пути и найдя нужную планету, я начал опускаться на ее поверхность.
В один из моментов, включив тормоза, я с изумлением увидел, что они не действуют и что я падаю на планету как камень. Выглянув из шлюза, я заметил, что тормозов вообще нет. С возмущением вспомнил я о неблагодарных Выгонтах, но размышлять о них было некогда, так как я уже находился в атмосфере, и ракета начала раскаляться до рубинового блеска, еще минута — и я сгорел бы заживо.
К счастью, в последний момент я вспомнил о замедлителе времени: включив его, я замедлил время настолько, что мое падение на планету продолжалось три недели. Разделавшись таким образом с затруднением, я вышел и осмотрел окрестности.
Ракета опустилась на обширной поляне, со всех сторон окруженной бледно-голубым лесом. Над деревьями с полупрозрачными стволами носились, очень быстро кружась, какие-то смарагдового цвета существа. Завидя меня, в лиловые кусты кинулась толпа существ, поразительно похожих на людей, с тою только разницей, что кожа у них была ярко-синяя и блестящая. Я уже знал о них кое-что от Тарантоги, а достав карманный космонавтический справочник, почерпнул оттуда пригоршню добавочных сведений.
Планету населяла порода человекообразных существ, гласил текст, называемых Микроцефалами и находящихся на крайне низкой ступени развития. Попытки связаться с ними не дали результатов. Было совершенно очевидно, что справочник не ошибается. Микроцефалы ходили на четвереньках, иногда садясь на корточки; когда я приближался к ним, они только таращили на меня изумрудные глаза, галдя без малейшего складу и ладу. Несмотря на отсутствие разума, поведение у них было спокойное и добродушное.
В течение двух дней я разведал голубой лес и окружающие его просторные степи и, вернувшись в ракету, захотел отдохнуть. Уже лежа в постели, я вспомнил об ускорителе и решил пустить его в ход на несколько часов, а завтра посмотреть, какие это даст результаты. Поэтому я не без труда вытащил его из ракеты, поставил под деревом, включил на ускорение времени и, вернувшись в постель, уснул сном праведным.
Разбудили меня сильные толчки и тряска. Открыв глаза, я увидел наклонившихся надо мной Микроцефалов, которые, стоя уже на двух ногах, крикливо переговаривались между собою, с огромным интересом изучали мои руки, а когда я попробовал сопротивляться, они чуть не вывихнули мне их. Самый крупный из них, фиолетовый великан, силком открыл мне рот и пальцем пересчитал все зубы.
Я тщетно вырывался из их рук. Меня вынесли на поляну и привязали к хвосту ракеты. Отсюда мне было видно, как Микроцефалы вытаскивали из ракеты все, что могли; крупные предметы, не проходившие в отверстие шлюза, они предварительно разбивали камнями на кусочки. Вдруг на ракету и на суетившихся вокруг нее Микроцефалов обрушился град каменьев, и один даже угодил мне в голову. Связанный, я не мог посмотреть, откуда летят камни, и слышал только шум сражения. Микроцефалы, связавшие меня, кинулись бежать. Подбежали другие Микроцефалы, освободили меня от веревок и с выражением великого почтения унесли на плечах в глубь леса.
У подножия развесистого дерева шествие остановилось. С ветвей дерева свисал на лианах какой-то воздушный шалашик с маленьким окошком. Через это окошко меня всунули внутрь, а собравшаяся под деревом толпа упала на колени, молитвенно голося. Хороводы Микроцефалов приносили мне в жертву цветы и плоды. В последующие дни я был предметом всеобщего поклонения, причем жрецы предсказывали будущее по выражению моего лица, а когда оно казалось им зловещим, они окуривали меня дымом, так что однажды я чуть не задохнулся. К счастью, во время жертвоприношений жрецы раскачивали мой шалашик, благодаря чему мне время от времени удавалось отдышаться.
На четвертый день на моих поклонников напал отряд вооруженных дубинами Микроцефалов под предводительством великана, считавшего мне зубы. Переходя во время битвы из рук в руки, я поочередно становился предметом то поклонения, то оскорблений. Битва закончилась победой нападавших, вождем которых был тот самый великан, по имени Глистолет. Я принимал участие в его триумфальном возвращении в поселок: меня привязали к высокой жерди, которую несли близкие родственники вождя. Это вошло в обычай, и с тех пор я стал чем-то вроде знамени, которое носили во всех военных походах — должность нелегкая, но с привилегиями.
Научившись немного языку Микроцефалов, я начал объяснять Глистолету, что он и его подданные обязаны столь быстрым развитием мне. Дело шло медленно, но у меня создалось впечатление, что он начинал кое-что понимать, когда его, к сожалению, отравил его же племянник Одлопез. Он объединил враждовавшие дотоле племена степных и лесных Микроцефалов, женившись на жрице Мастозимазе.
Увидев меня на свадебном пиру (я был отведывателем блюд, эту должность учредил Одлопез), Мастозимаза радостно вскричала: «Ах, какая у тебя беленькая шкурка!» Это наполнило меня злыми предчувствиями, которые вскоре оправдались. Мастозимаза задушила своего спящего супруга и вступила со мной в морганатический брак. Я пытался объяснить свои заслуги перед Микроцефалами и ей, но она поняла меня неправильно, так как при первых же словах крикнула: «Ага, так я тебе уже надоела!» — и мне пришлось долго успокаивать ее.
При последующем дворцовом перевороте Мастозимаза погибла, а я спасся бегством через окно. От нашего брака остался только бело-фиолетовый цвет государственных знамен. Убежав, я разыскал в лесу поляну с ускорителем и хотел выключить его, но потом мне пришло в голову, что лучше будет подождать, пока Микроцефалы создадут у себя более демократическую цивилизацию.
Некоторое время я прожил в лесу, питаясь лишь кореньями и только ночью приближаясь к стоянке, которая быстро превращалась в окруженный частоколом город.
Сельские Микроцефалы занимались земледелием, городские нападали на них, насиловали их жен, а их самих убивали и грабили. Из всего этого быстро родилась торговля. В то же время окрепли религиозные верования, ритуал которых усложнялся со дня на день. К моей великой досаде, Микроцефалы утащили ракету с поляны в город и поставили посреди главной площади как божество, окружив стенами и стражей. Несколько раз земледельцы объединялись, нападали на Лиловец (так назывался город) и общими усилиями разрушали его до основания, но каждый раз он очень быстро отстраивался.
Этим войнам положил конец царь Сарцепанос: он сжег деревни, уничтожил леса и земледельцев, а оставшихся в живых поселил как военнопленных, на землях под городом. Так как жить мне больше было негде, я пришел в Лиловец. Благодаря моим знакомствам (дворцовая прислуга помнила меня со времен Мастозимазы) я получил должность тронного массажиста. Полюбив меня, Сарцепанос решил дать мне чин помощника государственного палача, в ранге старшего мучителя. В отчаянии кинулся я на поляну, где работал ускоритель, и поставил его на максимальное действие. В ту же ночь Сарцепанос умер от обжорства, и на трон вступил военачальник Тримон Синеватый. Он ввел служебную иерархию, подати и принудительный войсковой набор. Меня спас от военной службы цвет кожи: меня признали альбиносом, и, как таковой, я не имел права приближаться к царскому жилищу. Я жил среди невольников, и они называли меня Ийоном Бледным.
Я начал проповедовать всеобщее равенство и разъяснять свою роль в общественном развитии Микроцефалов. Быстро сгруппировалось вокруг меня множество сторонников этого учения, которых назвали Машинистами, начались волнения и бунты, кроваво подавленные гвардией Тримона Синеватого. Машинизм был запрещен под страхом защекотания насмерть.
Несколько раз мне приходилось убегать из города и прятаться в городских рыбных садках, а мои горячие сторонники подвергались жестоким преследованиям. Потом на мои проповеди стало собираться все больше и больше высокопоставленных лиц — конечно, инкогнито. Когда Тримон трагически скончался, по рассеянности забыв дышать, царем стал Карбагаз Рассудительный. Это был сторонник моего учения, возведший его в достоинство государственной религии. Я получил титул Хранителя Машины и великолепное жилище по соседству с дворцом. У меня было множество дел, и я сам не заметил, как подчиненные мне жрецы начали проповедовать о моем небесном происхождении. Напрасно старался я запретить это. В то же время возникла секта Антимашинистов, утверждавших, что Микроцефалы развиваются естественным путем и что я — это бывший невольник, который, выбелившись мелом, пытается морочить людей.
Вождей секты схватили, и царь пожелал, чтобы я в качестве Хранителя Машины осудил их на смерть. Не видя другого выхода, я убежал через окно дворца и некоторое время скрывался в рыбных садках. Однажды до меня дошла весть, что жрецы проповедуют о вознесении на небо Ийона Бледного, который, выполнив свою миссию, вернулся к родичам-богам. Я пошел в Лиловец, чтобы выяснить дело, но толпа, преклонявшая колени перед моими изображениями, при первых же словах хотела забросать меня камнями. Жреческая стража спасла меня, но лишь затем, чтобы бросить в темницу как самозванца и обманщика. В течение трех дней меня скребли и терли, чтобы удалить предполагаемую краску, с помощью которой, как гласило обвинение, я притворялся Бледным. Так как я не голубел, решено было подвергнуть меня пытке. От этой неприятности мне удалось спастись благодаря одному стражнику, доставшему мне немного голубой краски. Я живо кинулся в лес, где находился ускоритель, и, порядком повозившись, поставил его на еще большее ускорение в надежде приблизить таким образом наступление порядочной цивилизации, а затем две недели скрывался в рыбных садках.
Я вернулся в столицу, когда были провозглашены республика, инфляция, амнистия и равенство сословий. На заставах уже требовали документы, а у меня никаких не было, так что меня арестовали за бродяжничество. Выйдя на свободу, я за неимением средств к жизни стал курьером в Министерстве просвещения. Министерские кабинеты сменялись иногда дважды в сутки, а так как каждое новое правительство начинало свою деятельность с отмены прежних законов и с издания новых, то мне все время приходилось бегать с циркулярами. В конце концов у меня распухли ноги, и я подал в отставку, которая не была принята, так как в это время было военное положение. Пережив республику, две директории, реставрацию просвещенной монархии, диктаторское правление генерала Розгроза и его падение, я потерял терпение при виде медленного развития цивилизации и еще раз принялся регулировать аппарат с тем результатом, что в нем сломался какой-то винтик. Я не обратил на это особого внимания, но дня через два заметил, что творится что-то необычайное.
Солнце вставало на западе, на кладбище слышались какие-то шумы, встречались воскресшие покойники, состояние которых улучшалось с каждой минутой, взрослые люди уменьшались на глазах, а маленькие дети куда-то исчезали.
Вернулись правление генерала Розгроза, просвещенная монархия, директория и, наконец, республика. Увидев собственными глазами идущее задним ходом погребальное шествие царя Карбагаза, который через три дня встал с катафалка и был разбальзамирован, я понял, что, вероятно, испортил аппарат и что теперь время пошло вспять. Хуже всего было то, что я замечал признаки помолодения на собственной особе. Я решил подождать воскресения Карбагаза I; тогда я снова стану Великим Машинистом и, пользуясь тогдашним своим влиянием, без труда смогу попасть внутрь считаемой божеством ракеты.
Однако самым страшным был поразительный темп изменений, я не был уверен, что дождусь нужной минуты. Каждый день я становился под деревом во дворе и отмечал черточками свой рост: я уменьшался с огромной скоростью. Сделавшись Хранителем Машины при Карбагазе, я выглядел не старше девятилетнего, а еще нужно было собрать запасы пищи на дорогу. Я сносил их в ракету по ночам, и это стоило мне немалых трудов, так как я становился все слабее. К величайшему моему изумлению, я увидел, что в свободные от занятий минуты меня охватывает непреодолимое желание поиграть в лошадки.
Когда ракета была уже готова к отлету, я на рассвете скрылся в ней и хотел взяться за стартовый рычаг, но он оказался слишком высок для меня. Я должен был взобраться на стул и только тогда смог передвинуть его. Я хотел выругаться и, к своему ужасу, убедился, что могу только пищать, как младенец. В момент старта я еще ходил, но, видимо, приданный мне импульс действовал еще некоторое время, так как уже вдалеке от планеты, когда ее диск превратился в светлое пятнышко, мне с трудом удалось подползти к бутылке с молоком, заранее припасенной мною. Таким способом я должен был питаться целых полгода.
Полет на Амауропию занимает, как я уже сказал, около тридцати лет, так что, вернувшись на Землю, я не вызвал своим видом тревоги у своих друзей. Жаль только, что я не умею фантазировать, ибо иначе мне не пришлось бы избегать встреч с Тарантогой, и я сумел бы, не обижая его, выдумать какую-нибудь сказку, чтобы польстить его изобретательским талантам.
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ 19.VIII. тдал ракету в ремонт. В прошлый раз |
20.VIII.
Согласился на зеленую краску. Директор уговаривает меня купить электрический мозг. У него есть один приличный, мощностью в двенадцать паровых душ. Говорит, что без мозга сейчас никто не летает даже на Луну. Я колеблюсь, потому что дорого. Весь вечер читал Бризара: захватывающее чтение. Даже стыдно, что я никогда не видел курдля.
21.VIII.
Утром — в мастерской. Директор показал мне мозг. Действительно, приличный, с пятилетним запасом анекдотов. По-видимому, это решает проблему космической скуки.
— Вы просмеетесь самый длинный перелет, — сказал директор. — Сработавшуюся батарею можно заменить новой.
Велел покрасить рули в красный цвет. Что касается мозга, еще подумаю. До полуночи читал Бризара. Не поохотиться ли на курдлей самому?
22.VIII.
В конце концов купил этот мозг. Велел встроить его в стену. Директор дал к нему еще электрическую подушку. Должно быть, порядком содрал с меня лишнего! Говорит, что я сэкономлю массу денег. Деле в том, что, прилетая на планету, обычно приходится платить въездную пошлину. Так вот, имея мозг, можно оставить ракету в пространстве, чтобы она вращалась вокруг планеты на манер искусственного спутника, и пройти остаток пути пешком, не платя ни гроша пошлины. Мозг рассчитывает астрономические элементы движения и сообщает, где потом искать ракету. Бризара я закончил. Почти уже решил лететь на Энтеропию.
23.VIII.
Взял ракету из мастерской. Выглядит очень хорошо, только рули по цвету не согласуются с остальным. Перекрасил их сам в желтый цвет. Гораздо лучше. Взял у Тарантоги том Космической энциклопедии на букву Э и выписал статью об Энтеропии Вот она:
«ЭНТЕРОПИЯ — шестая планета двойного (красного и синего) солнца в созвездии Тельца. Восемь материков, два океана, сто шестьдесят семь действующих вулканов, один сцьорг (см. СЦЬОРГ). Сутки двадцатичасовые, климат теплый, условия жизни, кроме периода спотыков (см. СПОТЫК), хорошие.
Население: господствующая раса — Ардриты, разумные существа, многопрозрачногранные, симметрично непарнощупальцевые (три), относящиеся к типу Силиконоидов, порядок Политерий, класс Люминифера. Как все Политерии (см. ПОЛИТЕРИЙ), Ардриты способны к периодическому произвольному почкованию. Образуют семьи шаровидного типа. Система управления: градархия П-2 со введенным 340 лет назад пенитенциарным трансмом (см. ТРАНСМ). Промышленность высоко развита, особенно пищевая. Главные предметы вывоза: фосфоризованные манубрии, серцоклеты и лаупаны многих пород, ребристые и медленно обожженные. Столица — Этотам, 1 400 тысяч жителей. Главные промышленные центры: Гаупр, Друр, Арбагелляр. Культура люминарная, с признаками огрибления в связи с проникновением остатков цивилизации вытесненных Ардритами Фитогозиан. В последнее время в общественно-культурной жизни все большую роль играют сепульки (см. СЕПУЛЬКИ). Верования: господствующая религия — монодрумизм. Согласно этому учению мир создан Многим Друмой в образе Первичной Платвы, из которой родились солнца и планеты с Энтеропией во главе. Ардриты строят платвовые храмы, постоянные и складные. Кроме монодрумизма, существует несколько сект, из них важнейшая — Плакотралы (см.). Плакотралы не верят ни во что, кроме Эмфезы (см.), да и то не все. Искусство: танец (вращательный), радиоакты, сепуление, байная драма. Архитектура: в связи со спотыками — пневматически-прессованная, гмазевая. Чашевидные гмазы достигают ста тридцати этажей. На искусственных спутниках преобладают овицеллярные (яйцевидные) постройки.
Животные: фауна силиконоидального типа. Главные представители: мержавцы, дендроги осенние, асманиты, курдли и скотивные осмиолы. В период спотыков охота на курдлей и осмиолов запрещена. Для человека эти животные несъедобны, за исключением курдля. Водная фауна является сырьем для пищевой промышленности. Главные представители: инферналии (чертяги), клоупы, вшиветы и сместы. Особенностью Энтеропии является сцьорг с его мятлинной фауной и флорой. В нашей Галактике единственной аналогией являются алы в бесствольных лесах Юпитера. Как показывают исследования профессора Тарантоги, вся жизнь на Энтеропии в рамках сцьорга развивалась из балбазиловых залежей. В связи с массовой застройкой суши и воды нужно ожидать быстрого исчезновения остатков сцьорга. Подпадая под § 6 закона об охране планетарных древностей (Галактический кодекс, т. ДДДVII, часть 32, стр. 4670), сцьорг подлежит охране; особенно запрещено коренить его в темноте».
В этой статье все было для меня ясно, кроме упоминаний о сепульках, трансме и спотыке. К сожалению, последний из появившихся томов энциклопедии оканчивался статьей «Соус грибной», так что ни о трансме, ни о спотыке там ничего не было. Однако я пошел к Тарантоге, чтобы посмотреть, что такое «сепульки». Нашел короткую информацию:
«СЕПУЛЬКИ — важный элемент цивилизации Ардритов (см.) на планете Энтеропии. См. СЕПУЛЬКАРИИ».
Я заглянул туда и прочел:
«СЕПУЛЬКАРИИ — предметы, служащие для сепуления (см.)».
Я поискал слово «Сепуление», там стояло-: «СЕПУЛЕНИЕ — деятельность Ардритов (см.) на планете Энтеропии (см.). См. СЕПУЛЬКИ».
Круг замкнулся, больше искать было негде. Никогда в жизни я не признался бы профессору в подобном невежестве, а никого другого спросить не могу. Жребий брошен: я решил лететь на Энтеропию. Вылетаю через два дня.
28.VIII.
Вылетел в 2 часа, тотчас после обеда. Никакие книг не взял, поскольку у меня есть этот мозг. До самой Луны слушал анекдоты, которые он мне рассказывал. Много смеялся. Потом ужин и спать.
29. VIII.
Кажется, в Лунной тени я простудился, потому что все время чихаю. Принял аспирин. На курсе — три грузовые ракеты с Плутона; водитель телеграфировал, чтобы я уступил дорогу. Я спросил, какой груз, думал бог знает что, а оказались самые простые брындасы. Потом была скорая с Марса, битком набитая. Мы махали друг другу платками, так что ничего не было видно. До ужина слушал анекдоты. Замечательно, только я все время чихаю.
30. VIII.
Повысил скорость. Мозг работает бесперебойно. У меня даже живот заболел, так что я выключил его
на два часа и включил электрическую подушку. Стало лучше. В 2 часа поймал радиосигнал, посланный с Земли Поповым в 1896 году. Отдалился от Земли уже порядочно.
31.VIII.
Солнце еле видно. Перед обедом — прогулка вокруг ракеты, чтобы не засидеться. До вечера — анекдоты. Большинство с бородой. Кажется, директор мастерской давал мозгу читать старые юмористические журналы и только сверху присыпал горсточкой новых анекдотов. Я забыл о картошке, которую поставил в атомный котел, и она сгорела до единой.
32. VIII.
Вследствие скорости время удлиняется: должен быть уже октябрь, а тут все август да август. В окне что-то замигало. Я думал, это уже Млечный Путь, а это только лак осыпался. Проклятая халтура! На курсе — станция обслуживания. Думаю, стоит ли останавливаться.
33. VIII.
Все еще август. После обеда подлетел к станции. Стоит на маленькой, совсем пустой планете. Здание станции словно вымерло, нигде ни души. Я взял канистру и пошел посмотреть, не найду ли какого-нибудь лаку. Хожу и вдруг слышу сопение. Смотрю, а за станционным зданием стоят несколько паровых машин и беседуют. Подхожу.
Одна говорит:
— Но ведь ясно же, что тучи — это форма загробной жизни паровых машин. Так вот, основной вопрос таков: что было раньше, паровая машина или водяной пар? Я считаю, что пар.
— Молчи, проклятая идеалистка! — зашипела другая.
Я пытался спросить насчет лака, но они так шипели и свистели, что я не слышал собственного голос Написал в книге жалоб и полетел дальше.
34. VIII.
Неужели этот август никогда не кончится? До полудня чистил ракету. Скука ужасная. Потом обратился к мозгу. Вместо смеха напала на меня такая зевота, что боялся за челюсти. По правому борту маленькая планета. Пролетая мимо, заметил на ней белые точки. В бинокль разглядел, что это таблички с надписью «Не высовываться». С мозгом что-то не в порядке: глотает знаки препинания.
1.Х.
Должен был высадиться на Строглоне, так как горючее кончилось. Тормозя, с разбегу перескочил через весь сентябрь.
На космодроме большое оживление. Я оставил ракету в пространстве, чтобы не платить пошлины взял только жестянки для горючего.
Предварительно рассчитал с помощью мозга координаты эллиптической орбиты. Через час возвращаюсь с полными жестянками, а ракеты ни следа. Разумеется, пустился искать. Думал, что язык высуну, так как прошел пешком что-то вроде четырех тысяч километров. Очевидно, мозг ошибся. Придется поговорить с директором мастерской, когда вернусь.
2.Х.
Скорость так велика, что звезды превратились в огненные полоски, как если бы кто-нибудь бросал в темной комнате пригоршни горящих папирос. Мозг заикается. Хуже всего, что сломался выключатель, и я не могу остановить его. Болтает без передышки.
3.Х.
.
Мозг иссякает, судя по тому, что говорит по складам. Постепенно привыкаю к этому. Насколько возможно, сижу снаружи, только ноги спускаю в ракету, потому что холодно.
7.Х.
Около половины двенадцатого прибыл на въездную станцию Энтеропии. Ракета сильно разогрелась от торможения. Я привязал ее на верхней палубе искусственного спутника (там находится станция) и пошел внутрь, чтобы выполнить формальности. В спиральном коридоре невероятное оживление. Посетители из самых дальних районов Галактики переходили, переползали и перепрыгивали от окошка к окошку. Я стал в очередь за светло-голубым Альголянином, который учтивым жестом предостерег меня, чтобы я не подходил слишком близко к его заднему электрическому органу. За мною тотчас же встал молодой Сатурниец в бежевом шлаулоне. Тремя присосками он держал чемодан, а четвертым вытирал пот. Действительно, было жарко. Когда подошла моя очередь, служащий, кристально-прозрачный Ардрит, пытливо взглянул на меня, позеленел (чувства у Ардритов выражаются изменениями окраски, зеленая соответствует улыбке) и спросил:
— Вы позвоночный?
— Да.
— Двоякодышащий?
— Нет, только воздухом.
— Благодарю вас, прекрасно. Всеядный?
— Да.
— С какой планеты, можно узнать?
— С Земли.
— Тогда прошу к следующему окошку. Я подошел туда и, заглянув внутрь, убедился, что вижу того же самого служащего, вернее — его дальнейшую часть. Он перелистывал большую книгу.
— А, вот она!—сказал он. — Земля... гм, очень хорошо. Вы турист или торговец?
— Турист.
— Тогда позвольте... — Одним присоском он заполнил анкету, а другим в то же время подал мне другую для подписи, говоря: — Спотык начинается через неделю. Благоволите поэтому перейти в комнату сто шестнадцать, там наша фабрика резервов, которая вами займется. Потом прошу зайти в комнат шестьдесят семь, это фармацевтический кабинет. Та вам дадут пилюли Эвфруглия, которые вы будете принимать через каждые три часа, чтобы нейтрализовать вредное для вашего организма влияние радиоактивности нашей планеты... Угодно вам светиться во время пребывания на Энтеропии?
— Благодарю вас, нет.
— Как хотите. Прошу вас, вот ваши бумаги. Вы млекопитающее?
— Да.
— Ну, так счастливого млекопитания!
Простившись с любезным служащим, я пошел, как он советовал мне, в отдел резервов. В яйцевидном помещении было, как показалось мне с первого взгляда, пусто. Там стояло несколько электрически аппаратов, а под потолком сияла брильянтовыми лучами хрустальная лампа. Оказалось, однако, что эт был Ардрит, дежурный техник; он тотчас же спустился с потолка. Я сел в кресло, а он, развлекая меня разговорами, совершил различные обмеры, а в заключение сказал:
— Благодарю вас, вашу папку мы передадим всем бридерам на планете. Если во время спотыка с вами что-нибудь случится, вы можете быть вполне спокойны... тотчас же доставим резерв!
Я не совсем понял, о чем он говорит, но многократные путешествия приучили меня к сдержанности, ибо для жителей любой планеты нет ничего неприятнее, чем разъяснять чужеземцу местные нравы и обычаи. В фармацевтическом кабинете я снова встал в очередь, но она подвигалась очень быстро, так что проворная Ардритка в фаянсовом абажуре вскоре уже вручила мне порцию пилюль, и с визой в руке я вышел на палубу.
Тотчас же за спутником начинается космотрасса в хорошем состоянии, с крупными рекламными надписями по обеим сторонам. Буквы отстоят друг от друга на несколько тысяч километров, но при нормальной скорости езды складываются в слова так быстро, словно их напечатали в газете. Некоторое время я с любопытством читал их: «Охотники! Пользуйтесь для охоты только пастой МЛИН!» или: «Охоться за осмиолом, будешь веселым!» и так далее.
Часов в 7 вечера я высадился на этотамском космодроме. Голубое солнце только что зашло. В лучах красного, стоявшего еще довольно высоко, все, казалось, было объято пожаром — необычайное зрелище! Рядом с моей ракетой величественно опустилась галактическая рейсовая. Под ее выходным шлюзом разыгрывались волнующие сцены встреч. После долгих месяцев разлуки Ардриты с возгласами восторга падали друг другу в объятия, а затем все: отцы, матери, дети — сливались в сплошные радостные шары, сверкающие отблесками алого солнца, и спешили к выходу. Пошел и я вслед за гармонически катящимися семействами; тотчас за космопортом находится станция гламбуса, в который сел и я. Экипаж этот представляет собою что-то вроде швейцарского сыра: в крупных его глазках помещаются взрослые, в мелких— детвора. Только я сел, как гламбус двинулся. Окруженный его кристальной массой, я видел под собой, над собой, вокруг себя приятно просвечивающие, разноцветные силуэты попутчиков. Я сунул руку в карман за томиком Бедекера, ибо пора было уже ознакомиться с его указаниями; каково же было мое удивление, когда я увидел, что держу том, в котором говорится о планете Энтеропии, отстоящей от места, где я нахожусь, на три миллиона световых лет! Нужный мне том Бедекера остался дома. Проклятая рассеянность!
Мне не оставалось ничего другого, как направиться в этотамское отделение известного астронавтического бюро «Галакс». Когда я обратился к водителю, он тотчас же любезно остановил гламбус, указал мне щупальцем на огромное здание и на прощание сердечно изменился в цвете.
С минуту я стоял без движения, наслаждаясь необычайным зрелищем, какое представлял погружающийся в сумерки центр города. Красное солнце только что скрылось за горизонтом. Ардриты не пользуются искусственным освещением, так как светятся сами. Авеню Мурдр, на которой я стоял, была полна мелькающими огнями прохожих; одна молодая Ардритка, проходя мимо меня, кокетливо засветилась золотистыми полосками под своим абажуром, но, узнав чужеземца, скромно пригасла.
Близкие и далекие дома искрились и светились возвращающимися обитателями, в храмах сияли молящиеся толпы, дети с поразительной быстротой переливались в лестничных клетках всеми цветами радуги — все это было так великолепно, так ярко, что мне просто не хотелось уходить, но я должен был уйти, боясь, что «Галакс» закроется.
В вестибюле бюро путешествий меня направили на двадцать третий этаж, в периферийный отдел. К сожалению, это печальная, но неоспоримая истина: Земля находится в малоизвестной, заколоченной досками глуши космоса!
Сотрудница, к которой я обратился в отделе обслуживания туристов, потускнела от замешательства и сообщила мне, что, к сожалению, «Галакс» не располагает ни проводниками, ни планами для Землян, так как они бывают на Энтеропии не чаще, чем раз в столетие. Она предложила мне справочник для Юпитериан, основываясь на общности солнечного происхождения Юпитера и Земли. Я взял его, поскольку ничего лучшего не было, и попросил заказать мне номер в отеле «Космония». Также я записался на охоту, организуемую «Галаксом», после чего вышел в город. Положение мое было тем неудобнее, что сам я не светился; поэтому, встретив на перекрестке Ардрита, регулирующего движение, я остановился и при его свете просмотрел полученный справочник. Как и следовало ожидать, в нем содержались сведения о том, где получить метановые препараты и что делать со щупальцами на официальных приемах и так далее. Поэтому я бросил его в мусорную корзинку, остановил проезжавший мимо эборет и велел ехать в квартал гмазов. Эти великолепные чашеобразные здания издали сверкали разноцветными огнями Ардритов, предающихся семейным радостям, а в административных помещениях грациозно извивались целые ожерелья служащих.
Удалив эборет, я некоторое время прогуливался пешком; когда я разглядывал возвышающийся над площадью гмаз Правления Пупсов, оттуда вышли двое высших сотрудников, которых можно было узнать по яркому блеску и по красным гребням вокруг абажуров. Они остановились недалеко от меня, и я расслышал их разговор.
— Значит, приказ о ребристости уже не действителен? — говорил один из них, высокий.
Другой посветлел на это и ответил:
— Нет. Директор говорит, что мы не выполняем программы, и все из-за Грудруфса. Не остается ничего другого, сказал директор, как переменить его.
— Грудруфса?
— Ну да.
Первый погас, потом он сказал, понижая голос:
— И запенится же он, бедняга!
— Пускай пенится, это ему не поможет. Иначе порядка не будет. Не для того так давно уже трансмутируют разных франтов, чтобы больше было сепулек!
Заинтригованный, я невольно приблизился к обоим Ардритам, но они молча удалились. Странное дело: после этого случая до моего слуха стало все чаще долетать слово «сепулька». В то время как я бродил по улицам, стремясь принять участие в ночной жизни столицы, из окружающих меня толп долетало до меня это загадочное выражение, произносимое то приглушенным шепотом, что намеренно громко; его можно было прочесть на объявлениях об аукционах и распродажах редкостных сепулек и в огненных неоновых рекламах, предлагающих модные сепулькарии. Напрасно раздумывал я над тем, что это может быть такое; наконец около полуночи, освежившись стаканом курдлих сливок в баре на восьмидесятом этаже большого магазина под звуки песенки «Моя сепулька, моя малютка», я ощутил такое любопытство, что спросил у проходившего мимо кельнера, где можно приобрести сепульки.
— Напротив, — машинально ответил он, подбивая счет. Потом он взглянул на меня и слегка потемнел. — Вы один? — спросил он.
— Да. А что?
— Ах, ничего. Простите, мелких нет.
Я отказался от сдачи и спустился лифтом вниз. Действительно, прямо против себя я увидел огромную рекламу сепулек, так что толкнул стеклянную дверь и очутился в пустом в эту пору магазине. Я подошел к прилавку и с деланным спокойствием спросил сепульку.
— Для какого сепулькария? — спросил продавец, спускаясь со своей вешалки.
— Ну, для обычного, — ответил я.
— Как для обычного? — удивился он. — У нас бывают только сепульки со свистом.
— Ну, так попрошу одну штуку.
— А где у вас жутка?
— Э, мгм, у меня ее нет с собой.
— Но как же вы ее возьмете без жены? — спросил продавец, испытующе глядя на меня и понемногу тускнея.
— У меня нет жены, — неосторожно вырвалось у меня.
— У вас... нет... жены?.. — пробормотал, чернея, продавец, пораженно уставясь на меня. — И вы хотите сепульку?.. Без жены?..
Он весь дрожал. Я слепо кинулся на улицу, поймал свободный эборет и в бешенстве приказал везти себя в какое-нибудь ночное кафе. Таким кафе оказался Иргиндрагг. Когда я вошел, оркестр только что умолк. Здесь висело, вероятно, более трехсот человек. Озираясь в поисках свободного места, я шел через зал, когда вдруг меня кто-то окликнул; с радостью увидел я знакомое лицо: это был один коммивояжер, с которым я познакомился когда-то на Аутеропии. Он висел с женой и дочерью. Я представился дамам и занялся разговором с сильно уже подвеселившейся компанией, причем каждый время от времени вставал, чтобы покружиться по паркету. Так как жена моего знакомого усердно приглашала меня, то в конце концов я отважился пуститься в танец, и вчетвером, крепко обнявшись, мы закружились в огненном мамбрине. Правду сказать, меня немного затолкали, но я делал хорошую мину при плохой игре и притворялся восхищенным. Когда возвращались к столику, я остановил своего знакомого и спросил у него на ухо насчет сепулек.
— Что такое? — переспросил он, не расслышав.
Я повторил вопрос, прибавив, что хотел бы приобрести сепульки. По-видимому, я говорил слишком громко: висевшие поблизости отворачивались и смотрели на меня с потускневшими лицами, а мой знакомый от страха спрятал щупальца.
— Ради великого Друмы, Тихий, но ведь вы один!
— Так что же такого? — выпалил я, несколько рассердившись. — Разве поэтому я не могу получить сепульки?
Слова эти упали во внезапно наступившей тишине. Жена моего знакомого в обмороке свалилась на пол, он кинулся к ней, а ближайшие Ардриты стали надвигаться на меня, выдавая окраской свои враждебные намерения; в этот момент появились три кельнера, взяли меня за шиворот и выбросили на улицу.
Я был попросту взбешен, остановил эборет и велел отвезти себя в отель. Целую ночь я не мог сомкнуть глаз, так меня что-то кусало и грызло; и только на рассвете я увидел, что отельная прислуга, не получив из «Галакса» более точных данных и по опыту зная, что бывают постояльцы, прожигающие постель до голой сетки, постлала мне белье из асбеста.
В утреннем свете неприятные впечатления предыдущего дня перестали меня мучить. С радостью встретил я представителя «Галакса», который в десять часов приехал ко мне в эборете, наполненном приманками, коробками с пастой для охоты и целым арсеналом охотничьего оружия.— Вы никогда не охотились на курдлей? — осведомился мой проводник, когда эборет с огромной скоростью помчался по улицам Этотама.
— Нет. Может быть, вы проинструктируете меня? — спросил я, улыбаясь. Многолетний опыт охоты на крупнейших зверей в Галактике давал мне право оставаться спокойным.
— Я к вашим услугам, — любезно отозвался мой провожатый.
Это был худощавый Ардрит стеклянного цвета, без абажура, окутанный темно-синей тканью, — такой одежды я на планете еще не видывал. Когда я сказал ему об этом, он ответил, что это охотничий костюм, необходимый для приближения к зверю; то, что я принимал за ткань, было специальным веществом, которым покрывают тело. Словом, это набрызгиваемая одежда, удобная, практичная, а главное — совершенно маскирующая природное свечение Ардритов, которое может отпугнуть курдля.
Проводник достал из портфеля печатный листок и подал мне для изучения. Я сохранил листок в своих бумагах, вот он:
«Как предмет охоты курдль предъявляет самые высокие требования и к личным качествам и к снаряжению охотника. А так как животное в процессе эволюции приспособилось к метеоритным дождям, создав себе непробиваемый панцирь, то на курдля охотятся изнутри.
Для охоты на курдля необходимы:
а) во вступительной фазе — охотничья паста, грибной соус, зеленый лук, соль и перец;
б) в активной фазе — рисовая метелка, бомба с часовым механизмом.
1. ПОДГОТОВКА. На курдля охотятся с приманкой. Охотник, намазавшись предварительно охотничьей пастой, притаивается в углублении сцьорга, после чего спутники посыпают его сверху мелко накрошенным луком и приправляют по вкусу.
2. В этом положении нужно ожидать курдля. Когда животное приблизится, нужно, сохраняя спокойствие, взять обеими руками заведенную бомбу, держа ее между колен. Голодный курдль обычно глотает сразу. Если курдль не хочет брать, можно для возбуждения аппетита слегка похлопать его по языку. Если грозит промах, некоторые советуют добавить соли, но это шаг рискованный, так как курдль может чихнуть. Немногие из охотников пережили чихание курдля.
3. Взяв приманку, курдль облизывается и уходит. Немедленно по проглатывании охотник приступает к активной фазе: стряхивает с себя с помощью метелки лук и приправы, дабы паста могла свободнее проявить свое слабительное действие, настраивает бомбу и возможно быстрее отходит в сторону, противоположную той, с которой прибыл.
Покидая курдля, надлежит постараться упасть на четвереньки и не разбиться.
Примечание. Пользоваться острыми приправами запрещено. Также запрещено подкладывать курдлям заведенные бомбы, посыпанные рубленым луком. Такие поступки преследуются и караются, как браконьерство». |
На границе охотничьего участка нас уже ожидал помощник Ваувр, окруженный семьей, блестевшей на солнце, как хрусталь. Он оказался очень сердечным и радушным; мы провели в его семействе несколько приятных часов, слушая рассказы из жизни курдлей и охотничьи воспоминания Ваувра и его сыновей. Вдруг прибежал запыхавшийся гонец, сообщая, что выслеженная группа курдлей направилась в чащу.
— Курдлей, — пояснил мне помощник, — нужно сначала хорошенько погонять, чтобы они проголодались.
Намазавшись пастой, взяв бомбу и приправы, я в сопровождении Ваувра и проводника направился в глубь сцьорга. Дорожка быстро исчезла в непроходимой чащобе. Мы двигались с трудом, время от времени обходя следы курдлей, имевшие вид ям пяти метрового диаметра. Поход продолжался довольно долго. Потом земля задрожала, и проводник остановился, сделав нам щупальцем знак молчать. Послышался гром, словно за горизонтом бушевала гроза
— Вы слышите? — шепнул проводник.
— Слышу. Это курдль?
— Да. Бродит.
Теперь мы двигались медленнее и осторожнее. Грохот утих, и сцьорг погрузился в молчание. Наконец сквозь чащу показалась обширная поляна. Мои спутники разыскали на ее краю хорошую позицию, приправили меня и, убедившись, что метелка и бомба у меня наготове, отошли на цыпочках, советуя мне потерпеть. Некоторое время царила тишина, нарушаемая только щелканьем осмиолов; ноги у меня уже порядочно одеревенели, как вдруг почва задрожала Я увидел какое-то движение: вершины деревьев вокруг поляны шевелились и склонялись к земле, выдавая путь зверя. Животное было, очевидно, крупным. И вдруг курдль вышел на поляну, перешагнул через поваленные стволы и, величаво покачиваясь, направился прямо ко мне, громко принюхиваясь. Я схватил обеими руками ушастую бомбу и хладнокровно ждал. Курдль остановился, облизываясь, метрах в пятидесяти от меня. В его полупрозрачном нутре ясно виднелись останки охотников, потерпевших неудачу.
Некоторое время курдль размышлял. Я боялся что он уйдет, как вдруг он подошел и проглотил меня. Я услышал глухое чавканье, и земля ушла у меня из-под ног.
«Клюнуло! Наша взяла!» — подумал я.
Внутри курдля было не так темно, как мне показалось в первую минуту. Приведя себя в порядок, я поднял тяжелую бомбу и принялся настраивать ее, как вдруг до меня донесся звук чьего-то дыхания. Я поднял голову и с удивлением увидел перед собой незнакомого Ардрита, наклонившегося над бомбой, как и я. С минуту мы смотрели друг на друга.
Что вы тут делаете? — спросил я.
— Охочусь на курдля, — ответил он.
Я тоже, — сказал я, — но прошу не обращать на меня внимания. Вы первым сюда попали.
— Ничего подобного, — возразил он. — Вы чужеземец.
— Так что же? — ответил я. — Свою бомбу я сберегу до следующего раза. Прошу вас не смущаться моим присутствием.
— Ни за что на свете, — настаивал он. — Вы наш гость.
— Я прежде всего охотник.
— А я прежде всего хозяин, и я не позволю, чтобы вам пришлось из-за меня отказаться от этого курдля! Очень прошу вас поторопиться, так как паста уже начинает действовать!
В самом деле, курдль забеспокоился: даже здесь слышалось его могучее сопение, как от десятка или полутора десятков паровозов сразу. Видя, что мне не переубедить Ардрита, я настроил бомбу и подождал своего нового знакомого, который, однако, просил меня выходить первым. Вскоре мы покинули курдля. Падая с высоты двух этажей, я слегка вывихнул себе лодыжку. Курдль, которому явно полегчало, помчался в чащу, ломая там деревья с ужасающим шумом. Вдруг раздался страшный грохот, и все утихло.
— Готов! От всей души поздравляю вас! — крикнул охотник, крепко пожимая мне руку. Тут подошли проводник и помощник.
Так как уже смеркалось, то нужно было спешить с возвращением; помощник обещал мне собственноручно набить из курдля чучело и прислать его на Землю с ближайшей грузовой ракетой.
5. XI.
Четыре дня не записывал ни слова, так был занят. Каждое утро — доклады в Обществе культурной связи с космосом, музеи, выставки, радиоакты, а после полудня — визиты, официальные приемы и беседы. Я уже порядком устал. Делегат ОКСК, мой куратор, сказал мне вчера, что приближается спотык, но я забыл у него спросить, что это значит. Мне нужно повидаться с профессором Зазулом, выдающимся ардритским ученым, но не знаю, когда это будет.
6. XI.
Утром в отеле меня разбудил страшный гул. Я выскочил из постели и увидел, что над городом вздымаются столбы огня и дыма. Я позвонил в справочный отдел, спрашивая, что случилось.
— Ничего особенного, — ответила телефонистка, — просим не тревожиться, это только спотык.
— Спотык?
— Ну да, поток метеоритов, повторяющийся у нас каждые десять месяцев.
— Какой ужас! — вскричал я. — Может быть нужно спуститься в убежище?
— О, падения метеорита не выдержит никакое убежище. Но ведь у вас есть резерв, как у каждого из нас, вам нечего бояться.
— Какой резерв? — спросил я, но телефонистка уже повесила трубку.
Я быстро оделся и вышел в город. Движение на улицах было совершенно нормальным: спешили по своим делам прохожие, ехали в учреждения сверкающие орденами чиновники, а в скверах играли дети, пели и светились. Через некоторое время взрывы стали реже, и только издали доносился размеренный гул. Я подумал, что спотык, по-видимому, не очень опасен, поскольку из-за него никто не тревожится, поехал в зоопарк.
Проводником у меня был сам директор, худощавый нервный Ардрит, отличавшийся красивым блеском. Этотамский зоопарк содержится очень хорошо; директор с гордостью сообщил мне, что у него есть коллекции животных с самых дальних окраин Галактики, в том числе и с Земли. Взволнованный, я захотел взглянуть на них.
— Сейчас, к сожалению, это невозможно, — ответил директор, а на мой вопрос объяснил: — Им время спать. Вы знаете, у нас было много хлопот с акклиматизацией, и я боялся, что нам не удастся сохранить в живых ни одного экземпляра, но, к счастью, витаминизированная диета, разработанная нашими учеными, дала превосходные результаты.
— Ах, вот как! А какие, собственно, у вас животные?
— Мухи. Вы любите курдлей?
Он смотрел на меня как-то особенно, выжидающе, так что я ответил, стараясь придать голосу оттенок искреннего энтузиазма:
— О, очень люблю, это такие приятные существа!
Он прояснился.
— Это хорошо. Идемте к ним, но сначала я попрошу вас подождать минутку.
Он быстро вернулся, обвитый веревкой, и провел меня к загону курдлей, окруженному девяностаметровой стеной. Открыв дверь, он пропустил меня первым.
— Можете идти спокойно, — сказал он, — мои курдли совершенно ручные.
Я увидел вокруг себя искусственный сцьорг; здесь паслось шесть или семь курдлей, превосходные экземпляры, занимающие около трех гектаров. Самый крупный, когда директор подозвал его, подошел и подставил нам хвост. Директор взобрался на него, знаком подозвал меня, и я последовал за ним. Когда крутизна стала слишком большой, директор развернул веревку и дал мне один конец, чтобы обвязаться. Связавшись, мы поднимались часа два. На вершине курдля директор молча уселся, явно взволнованный. Я не говорил ни слова, желая уважить его чувства. Через некоторое время он сказал:
— Разве не прекрасный отсюда вид? Действительно, под нами простирался почти весь Этотам со своими башнями, храмами и гмазами; улицы кишели прохожими, маленькими, как муравьи.
— Вы любите курдлей? — тихо спросил я, видя, как ласково директор гладит спину животного близ хребта.
— Люблю, — прямо ответил он, глядя мне в лицо. — Ведь курдли — это колыбель нашей цивилизации, — добавил он и, подумав, продолжал: — Когда-то, тысячелетия назад, у нас не было ни городов, ни прекрасных зданий, ни техники, ни резервов... Тогда эти мирные могучие существа охраняли нас, спасали в тяжелые периоды спотыков. Без курдлей ни один Ардрит не дожил бы до нынешних прекрасных дней, а теперь он охотится на них, уничтожает их, губит... Какая чудовищная черная неблагодарность!
Я не смел перебивать его. Через минуту, справившись с волнением, он заговорил снова:
— Как я ненавижу охотников, воздающих подлостью за добро! Вы, наверное, видели рекламы охотничьей пасты, не правда ли?
— Конечно.
До глубины души пристыженный словами директора, я дрожал при мысли, что он может узнать о моем недавнем поступке: ведь я собственными рукам убил курдля! Желая отвлечь директора от столь опасной темы, я спросил:
— Так вы действительно столь многим обязаны им? Я не знал этого...
— Как, вы не знали? Но ведь курдли носили нас в своем чреве двадцать тысяч лет! Живя в них, защищенные их мощными панцирями от гибельных метеоритных дождей, наши предки стали тем, чем мы являемся сейчас: существами разумными, прекрасными, светящимися в темноте. И вы об этом не знали?
— Я чужеземец... — прошептал я, давая себе в душе клятву никогда не поднимать руки на курдля.
— Ну, да, да... — ответил директор, не слушая меня, и встал. — К сожалению, нам нужно возвращаться: я спешу к своим обязанностям.
Из зоопарка я поехал эборетом в «Галакс», где мне должны были оставить билеты на вечернее представление.
В центре города снова послышались громовые взрывы, все более громкие и частые. Над крышам взлетали столбы огненного дыма. Видя, что никто из прохожих не обращает на это ни малейшего внимания, я молчал, пока эборет не остановился перед «Галаксом». Дежурный спросил меня, как мне понравился зоопарк.
— Конечно, очень хороший, но... ох, боже мой!
Весь «Галакс» содрогнулся. Два здания напротив, видимые в окно как на ладони, разлетелись под ударом метеорита. Я лишился слуха и завертелся у стены.
— Это ничего, — сказал дежурный. — Пробыв у нас подольше, вы к этому привыкнете. Прошу вас, вот ваш биле...
Он не окончил. Что-то заблестело, загремело, поднялась пыль, а когда она осела, то вместо своего собеседника я увидел огромную дыру в полу. Я стоял как окаменелый. Не прошло и минуты, как несколько Ардритов в комбинезонах заделали дыру и привезли низенькую тележку с большим свертком. Когда его развернули, моим глазам предстал дежурный с билетом в руке. Он стряхнул с себя остатки упаковки, устроился на насесте и сказал:
— Вот ваш билет. Я же говорил вам, что ничего особенного в этом нет. Каждый из нас в случае необходимости дублируется. Вы удивляетесь нашему спокойствию? Но это продолжается уже тридцать тысяч лет, мы привыкли... Если хотите пообедать, то ресторан «Галакса» уже работает. Внизу, налево от входа.
— Спасибо, у меня нет аппетита, — ответил я и вышел на слегка дрожащих ногах среди непрестанных взрывов и грохота. Тотчас же меня охватил гнев.
«Не увидеть вам, что Землянин испугался!» — подумал я и, взглянув на часы, приказал ехать в театр.
По пути эборет был разбит метеоритом, так что я взял другой.
На том месте, где вчера стояло здание театра, сейчас возвышалась дымящаяся груда развалин.
— Возвращаете вы деньги за билеты? — спросил я у стоявшего на улице кассира.
— Ничуть. Спектакль начнется нормально.
— Как так нормально? Ведь метеорит...
— Осталось еще двадцать минут, — указал мне кассир время по своим часам.
— Но...
— Может быть, вы будете любезны не занимать места у кассы? Мы хотим купить билеты! — закричали на меня из очереди, образовавшейся уже за мною. Пожав плечами, я отошел в сторону. Тем временем две большие машины забрали обломки и повезли их прочь. Через несколько минут площадь был очищена.
— Разве будут играть под открытым небом? — спросил я у одного из ожидающих, обмахивавшегося программой.
— Ничего подобного; полагаю, все будет, как всегда, — ответил он.
Рассердившись, я умолк, думая, что надо мной насмехаются.
На площадь приехала большая цистерна. Из не вылили смолистую, рубиново светящуюся массу, которая образовала большую груду; тотчас же в это пышущее жаром тесто всунули концы труб и начал нагнетать в него воздух. Тесто превратилось в пузырь, растущий с поразительной быстротой. Через минуту он превратился в точную копию театрального здания, только еще мягкую, колышущуюся от дуновения ветра. Еще через пять минут нововыдутое здание затвердело, в этот момент метеорит разбил часть его крыши. Поэтому пришлось выдуть новую крышу, и через широко открытые двери в здание хлынул поток зрителей. Занимая место, я заметил, что оно еще теплое — это было единственным свидетельством недавней катастрофы. Я спросил у соседа, что это за масса, из которой выдули театр, и узнал, что это и есть знаменитая ардритская гмазь.
Спектакль начался с опозданием на одну минуту. По звуку гонга зал потемнел, напомнив мне жаровню, полную тлеющих углей, зато артисты великолепно засверкали. Игралась символически-историческая пьеса, и я, по правде говоря, понял из нее немного, тем более что некоторые моменты изображались цветовой пантомимой.
Первый акт происходил в храме, группа молодых Ардриток венчала цветами статую Друмы и пела о своих возлюбленных. Вдруг появился янтарный жрец и разогнал всех девушек, кроме одной, прозрачной, как ключевая вода. Жрец запер ее внутри статуи. Пленница вызвала пением своего возлюбленного который вбежал и погасил старика. В этот момент упал метеорит, уничтожив крышу, часть декораций и примадонну, но из суфлерской будки немедленно подали резерв, да так ловко, что те, кто в этот момент откашливался или закрыл глаза, вообще ничего не заметили. В дальнейшем влюбленные решили основать семью. Акт кончился тем, что жреца столкнули в пропасть.
Когда после антракта занавес поднялся, я увидел таинственный шар, состоящий из родителей и детей и катавшийся под звуки музыки из стороны в сторону. Появился слуга, объявляя, что неизвестный благодетель прислал супругам комплект сепулек. Потом на сцену внесли огромный тюк, к раскрыванию которого я приглядывался затаив дыхание. Но едва его раскрыли, как что-то сильно ударило меня в темя, и я потерял сознание. Очнулся я на том же самом месте.
О сепульках на сцене уже не говорилось, там, среди трагически светящихся детей и родителей, метался погасший жрец, сыпля страшнейшими проклятиями. Я схватился за голову — шишки не было.
— Что со мною было? — шепотом спросил я у соседки.
— Простите? А, вас убил метеорит, но вы из пьесы ничего не потеряли, этот дуэт как раз был отвратительным. Другое дело — скандал: за вашим резервом пришлось посылать в «Галакс», — прошептала в ответ любезная Ардритка.
— За каким резервом? — спросил я, чувствуя, что в глазах у меня темнеет.
— Ну, за вашим же...
— А где я?
— Как где? В театре. Вам плохо?
— Значит, я резерв?
— Конечно.
— А где тот я, что был тут раньше?
Сидящие впереди нас громко зашикали, и моя соседка умолкла.
— Одно слово, умоляю вас, — тихо прошептал я. — Где те... ну... вы знаете...
— Тихо! Что такое! Не мешайте! — кричали все громче с разных сторон. Мой сосед, став от гнева оранжевым, начал вызывать капельдинеров. Вне себя я выбежал из театра, первым попавшимся эборетом вернулся в гостиницу и подробно рассмотрел себя в зеркало. Бодрость уже начала возвращаться ко мне, ибо я выглядел совершенно так, как и раньше, но при более подробном исследовании я сделал потрясающее открытие. А именно: рубашка у меня была надета наизнанку, а пуговицы перепутаны — явное доказательство, что те, кто одевал меня, не имели о земной одежде ни малейшего понятия. В довершение всего из носка я вытряхнул остатки забытой в спешке упаковки. Дыхание у меня перехватило, тут зазвонил телефон.
— Звоню вам уже в четвертый раз, — сказала барышня из ОКСК. — Профессор Зазул хотел бы повидаться с вами сегодня.
— Кто? Профессор? — переспросил я, с огромным усилием собираясь с мыслями. — Хорошо, а когда?
— Когда вам угодно, хоть сейчас.
— Так я сейчас же к нему поеду! — решил я вдруг. — И... попрошу приготовить мой счет.
— Вы уже уезжаете? — удивилась барышня из ОКСК.
— Да, я должен. Мне очень нездоровится, — объяснил я и бросил трубку на подставку.
Переодевшись, я сошел вниз. Недавние события так на меня подействовали, что я назвал адрес профессора, не дрогнув, хотя в ту минуту, когда я садился в эборет, все здание отеля рухнуло под ударом метеорита.
Профессор жил в пригородном районе, среди мягко серебрящихся гор. Я остановил эборет довольно далеко, так как рад был пройтись пешком после нервного напряжения последних часов. Идя по дороге, я увидел невысокого пожилого Ардрита, неторопливо катившего впереди себя что-то вроде крытой тележки. Он любезно поздоровался со мной, я ему ответил. Несколько времени мы шли вместе. Из-за поворота показалась живая изгородь, окружающая дом профессора; оттуда поднимались к небу клубы дыма. Ардрит, шедший со мною рядом, споткнулся, тотчас же из-под покрышки раздался голос.
— Уже?
— Нет еще, — ответил тот.
Я немного удивился, но ничего не сказал. Когда мы приблизились к изгороди, меня удивил дым, валивший с того места, где я ожидал увидеть дом профессора. Я обратил на это внимание возницы, он кивнул головой.
— Ну да, тут упал метеорит, вот уже с четверть часа.
— Что я слышу! — пораженно вскричал я. — Но это ужасно!
— Сейчас приедут гмазевцы, — возразил возница. — В пригородах они не так спешат, знаете ли. Не то, что мы.
— Уже? — снова послышался из повозки скрипучий голос.
— Нет еще, — ответил возница и обратился ко мне. — Может, будете так добры открыть мне калитку?
Я машинально сделал это и спросил:
— Так вы тоже к профессору?..
— Да, привез резерв, — ответил он, поднимая покрышку. Дух у меня занялся, когда я увидел большой, старательно увязанный тюк; в одном месте бумага была надорвана, и оттуда смотрел живой глаз.
— Вы ко мне... а... это вы... — заскрипел из тюка старческий голос. — Я сейчас... я сейчас... прошу вас в беседку...
— Д... да... бегу... — еле ответил я.
Возница потащил свой груз дальше; тогда я повернулся, перепрыгнул через изгородь и со всех ног бросился на космодром. Через час я уже мчался в звездных просторах. Надеюсь, профессор Зазул не рассердился на меня за это.
ПУТЕШЕСТВИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ сейчас очень занят классификацией предметов, |
в самые отдаленные закоулки Галактики. Давно уже я решил передать всю эту коллекцию, единственную в своем роде, в музей; недавно директор сообщил мне, что для этого подготавливается специальный зал.
Не все экспонаты мне одинаково близки: одни будят приятные воспоминания, другие напоминают о зловещих и страшных событиях, но все они свидетели, полностью подтверждающие подлинность моих путешествий.
К экспонатам, воскрешающим особенно яркие воспоминания, относится зуб, лежащий на маленькой подушечке под стеклянным колпаком; у него два корня, и он совершенно здоровый, но сломался он у меня на приеме у Октопуса, владыки Мемногов, на планете Утраме; кушания там подавались превосходные, но чересчур твердые.
Такое же почетное место занимает в моих коллекциях курительная трубка, разбитая на две неравные части; она выпала у меня из ракеты, когда я пролетал над одной каменистой планетой в области созвездия Пегаса. Жалея о потере, я потратил полтора дня, разыскивая ее в дебрях изрытой пропастями скалистой пустыни.
Немного дальше лежит в коробочке камешек не крупнее горошины. История его довольно необычна. Отправляясь на Ксерузию, самую отдаленную звезду в двойной туманности С-887, я переоценил свои силы; путешествие длилось так долго, что я был близок к гибели; особенно мучила меня тоска по Земле, и я себе места не находил в ракете. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы на двести шестьдесят восьмой день пути я не почувствовал, как что-то давит у меня под левой пяткой; я снял башмак и со слезами на глазах вытряхнул из него камешек, кусочек самого настоящего земного песчаника, попавший туда, вероятно, еще на космодроме, когда я поднимался в ракету. Прижимая к груди этот крохотный, но такой дорогой мне кусочек родной планеты, я бодро долетел до своей цели; эта памятка мне особенно дорога.
Дальше лежит на бархатной подушке обыкновенный, желтовато-розовый кирпич из обожженной глины, слегка треснувший и с одного конца надломленный; если бы не счастливое стечение обстоятельств и не мое присутствие духа, я никогда не вернулся бы из путешествия в туманность Гончих Псов. Этот кирпич я обычно беру с собою, направляясь в самые холодные уголки космоса; у меня есть привычка класть его на некоторое время в атомный мотор, чтобы потом, когда он хорошенько разогреется, переложить незадолго до сна на свою койку. В верхнем левом квадранте Млечного Пути, там, где звездный рой Ориона смыкается с роями Стрельца, летя на малой скорости, я стал свидетелем столкновения двух метеоритов. Зрелище огненного взрыва во мраке так взволновало меня, что я схватил платок, чтобы вытереть себе лоб. Я забыл, что только что завернул в него кирпич, и чуть не разбил себе череп, с размаху поднеся кирпич ко лбу. К счастью, я со свойственной мне быстротой заметил грозившую мне опасность.
Рядом с кирпичом стоит небольшая деревянная коробочка, а в ней — мой перочинный ножик, спутник во множестве приключений. О том, как я к нему привязан, свидетельствует следующая история, которую стоит рассказать.
Я вылетел с Сателлины в два часа пополудни с ужасным насморком. Местный врач, к которому я обратился, посоветовал мне отрезать нос: для жителей планеты это дело пустяковое, так как носы у них отрастают, как ногти. Возмущенный таким советом, я прямо от врача отправился в космопорт, чтобы улететь в такие районы неба, где медицина лучше развита. Путешествие было неудачное. С самого начала, отдалившись от планеты на каких-нибудь девятьсот тысяч километров, я услышал позывные какой-то ракеты и спросил по радио, кто летит. В ответ раздался тот же вопрос.
— Отвечай ты первый! — потребовал я довольно резко, раздраженный дерзостью незнакомца.
— Отвечай ты первый! — ответил он.
Это передразниванье так меня рассердило, что я назвал поведение незнакомца наглостью. Он не остался в долгу; мы начали переругиваться все яростнее, и только минут через двадцать, возмущенный до крайности, я понял, что никакой другой ракеты нет и что голос, который я слышу, — это попросту эхо моих собственных радиосигналов, отражающихся от поверхности спутника Сателлины, мимо которого я как раз пролетал. Я не заметил этого спутника потому, что он был обращен ко мне своей ночной, затененной стороной.
Через несколько часов, захотев очистить себе яблоко, я заметил, что моего ножика нет. И тотчас же я вспомнил, где видел его в последний раз: это было в буфете космопорта на Сателлине; я положил его на наклонную доску прилавка, и он, вероятно, соскользнул на пол. Все это я представил себе так ясно, что мог бы найти его с закрытыми глазами. Я повернут ракету обратно и тут оказался в затруднительном положении: все небо кишело мерцающими огоньками, и я не знал, как найти среди них Сателлину, одну из тысячи четырехсот восьмидесяти планет, вращающихся вокруг солнца Эрипелазы. Кроме того, у многих из них есть по нескольку спутников, крупных, как планеты, что еще больше затрудняет ориентировку. Встревожась, я попытался вызвать Сателлину по радио. Ответило мне одновременно несколько десятков станций, отчего получилась ужасающая какофония; нужно знать, что жители системы Эрипелазы, столь же безалаберные, сколь и вежливые, дали название Сателлины, вероятно, двумстам различным планетам. Я взглянул в окно на мириады мелких искорок; на одной из них находился мой ножик, но легче было бы найти иголку в стоге сена, чем нужную планету в этой каше из звезд. В конце концов я положился на счастливый случай и помчался к планете, находившейся прямо впереди.
Уже через четверть часа я опустился в порту. Он был совершенно сходен с тем, с которого я взлетел, так что, обрадовавшись своей удаче, я бросился прямо в буфет. Но каково же было мое разочарование, когда, несмотря на самые тщательные поиски, я не нашел своего ножика! Прекратив их, я призадумался и пришел к тому выводу, что либо его кто-нибудь взял, либо я нахожусь на совсем другой планете. Расспросив местных жителей, я убедился, что верным было второе предположение. Я попал на Андригону, старую, рассыпавшуюся, одряхлевшую планету, которую, собственно говоря, давно уже нужно было бы изъять из употребления, но о которой никто не думал, так как она лежит в стороне от главных космических путей. В порту меня спросили, какую Сателлину я ищу, так как они перенумерованы. Тут я очутился в тупике, ибо нужный номер вылетел у меня из головы. Тем временем явились местные власти, уведомленные начальством порта; они желали торжественно приветствовать меня.
Это был великий день для Андригонов: во всех школах шли экзамены на аттестат зрелости. Один из представителей власти спросил, не угодно ли мне оказать экзаменам честь своим присутствием; так как приняли меня чрезвычайно радушно, то я не мог отказать в этой просьбе. Прямо из порта мы поехали на пидлаке (это большие безногие пресмыкающиеся вроде ужей, которыми здесь широко пользуются для верховой езды) в город. Меня представили множеству собравшейся молодежи и учителям как почетного гостя с планеты Земля. Преподаватели усадили меня на почетное место за жервой (это что-то вроде стола), и прерванные экзамены продолжались. Ученики, взволнованные моим присутствием, сначала пугались и сильно конфузились, но я ободрял их ласковой улыбкой, подсказывал тому или другому нужное слово, так что первый лед был сломан. Чем дальше, тем ответы становились все лучше. Но вот перед экзаменационной комиссией встал молодой Андригон, весь покрытый здренгами (род устриц, применяющихся в качестве одежды), такими красивыми, каких я давно не видел, и начал отвечать на вопросы с несравненным красноречием и искусством. Я слушал его с удовольствием, убеждаясь, что уровень науки здесь вообще стоит высоко.
Потом экзаменатор спросил:
— Может ли кандидат доказать нам, почему жизнь на Земле невозможна?
Слегка поклонившись, юноша приступил к исчерпывающим, логично обоснованным доказательствам, в которых бесспорно установил, что большая часть Земли покрыта холодными, очень глубокими морями, температура которых близка к нулю вследствие множества плавающих там ледяных гор; что не только на полюсах, но и в окружающих областях царят страшные вечные морозы и по полугоду стоит беспросветная ночь; что, как хорошо видно в астрономические приборы, большие области даже в более теплых поясах покрываются замерзшим водяным паром, так называемым снегом, который толстым слоем одевает горы и долины; что крупный спутник Земли вызывает на ней волны приливов и отливов, оказывающие сильное эрозионное действие; что с помощью сильнейших телескопов можно увидеть, как обширные участки планеты нередко бывают затенены слоями облаков; что в атмосфере бушуют страшные циклоны, тайфуны и бури; что все это, вместе взятое, исключает возможность существования жизни в какой бы то ни было форме. А если бы, закончил звучным голосом юный Андригон, какие-нибудь существа и попытались высадиться на Земле, они неизбежно погибли бы, раздавленные огромным давлением атмосферы, достигающим на уровне моря одного килограмма на квадратный сантиметр, или семисот шестидесяти миллиметров ртутного столба.
Такое исчерпывающее объяснение было единогласно одобрено комиссией. Оцепенев от изумления, я долго сидел неподвижно, и только когда экзаменатор хотел перейти к следующему вопросу, я вскричал:
— Простите меня, достойные Андригоны, но... но я сам прибыл с Земли; разве вы не видите, что я жив, и не слышали, как я был вам представлен?
Воцарилось неловкое молчание. Профессора, глубоко задетые моим бестактным выступлением, еле сдерживались; молодежь, не умеющая скрывать своих чувств, смотрела на меня с явной неприязнью. Наконец экзаменатор холодно произнес:
— Прости, чужестранец, но не слишком ли многого ты требуешь от нашего гостеприимства? Разве тебе мало торжественной встречи и всех оказанных тебе знаков уважения? Разве ты не удовлетворен тем, что тебя допустили к высокой экзаменационной жертве? Или тебе всего этого мало? Или ты требуешь, чтобы мы ради тебя изменили школьные программы?
— Но... Земля действительно обитаема, — смущенно пробормотал я.
— Если бы это было так, — произнес экзаменатор, глядя на меня так, словно я был прозрачным, — то это было бы нарушением законов природы!
Увидев в этих словах оскорбление для моей родной планеты, я тотчас же вышел, ни с кем не прощаясь, сел на первого попавшегося пидлака, поехал в космопорт и, отряхнув от ног своих прах Андригоны, пустился на дальнейшие поиски ножика.
Так я опускался поочередно на пяти планетах группы Линденблада, на планетах Стереопропов и Мелациан, на семи великих небесных телах планетного семейства Кассиопеи, посетил Остерилию, Аверенцию, Мельтонию, Латерниду, все ветви огромной спиральной туманности в Андромеде, системы Плезиомаха, Гастрокланциуса, Эвтремы, Оменофора и Паральбиды; на следующий год я систематически обыскивал окрестности всех звезд Саппоны и Меленваги, а также планеты: Эритродонию, Арреноиду, Эодокию, Артенурию и Строглон со всеми его восьмьюдесятью лунами, нередко такими маленькими, что едва было где посадить ракету; на Малой Медведице я не мог высадиться, так как там происходил переучет; потом настал черед Цефеид и Арденид; и руки у меня опустились, когда я по ошибке снова высадился на Линденбладе. Однако я не сдался и, как подобает подлинному исследователю, кинулся дальше. Через три недели я заметил планету, во всех подробностях сходную с Сателлиной; сердце у меня забилось быстрее, когда я спускался к ней по спирали, но напрасно искал я на ней знакомый космодром. Я уже хотел снова повернуть в бесконечное пространство, когда увидел, что какое-то крохотное существо делает мне знаки спуститься. Выключив двигатели, я быстро спланировал и приземлился близ группы живописных скал, на которых красовалось большое здание из тесаного камня. Навстречу мне по лугу бежал высокий старик в белой рясе доминиканцев. Оказалось, что это отец Лацимон, руководитель всех миссий, действующих на звездных системах в радиусе шестидесяти световых лет. В этот район входит около пяти миллионов планет, из них два миллиона четыреста тысяч обитаемых. Узнав о причине, приведшей меня в эти края, отец Лацимон выразил сочувствие и вместе радость по поводу моего прибытия: по его словам, я был первым человеком, которого он видит за семь месяцев.
— Я так привык, — сказал он, — к повадкам Меодрацитов, населяющих эту планету, что часто ловлю себя на одном жесте: когда хочу получше прислушаться, то поднимаю руки, как они.
Уши у Меодрацитов находятся, как известно, под мышками.
Отец Лацимон оказался очень гостеприимным: я разделил с ним обед, приготовленный из местных продуктов (я давно уже не едал ничего вкуснее), а потом мы сидели на веранде миссионерского дома. Пригревало лиловое солнце, в кустах пели птеродактили, которыми кишит планета, и в предвечерней тишине седой доминиканский приор начал поверять мне свои огорчения и жаловаться на трудности миссионерской работы в этих областях. Например, Пятеричники, обитатели горячей Антилены, мерзнущие уже при шестистах градусах, даже слышать не хотят о рае, зато описания ада живо интересуют их, по причине упоминаемых там благоприятных условий (кипящая смола, пламя). Кроме того, неизвестно, кто из них может принимать духовный сан, так как у них различается пять полов; это нелегкая проблема для теологов.
Я выразил сочувствие, отец Лацимон пожал плечами.
— Это еще ничего! Бжуты, например, считают воскресение из мертвых такой же будничной вещью, как одевание, и никак не хотят смотреть на него как на чудо. У Дартридов на Эгидии нет ни рук, ни ног, они могли бы креститься только хвостом, но я не могу решиться на это сам, я жду ответа из апостолической столицы, но что же делать, если Ватикан молчит уже второй год? А слышали вы о жестокой судьбе, постигшей бедного отца Орибазия из нашей миссии?
Я ответил отрицательно.
— Тогда послушайте. Уже первооткрыватели Уртамы не могли нахвалиться ее жителями, могучими Мемногами. Существует мнение, что эти разумные создания относятся к самым отзывчивым, ласковым, добрым и альтруистическим во всем космосе. Полагая, что на этом основании они хорошо воспримут семена веры, мы послали к Мемногам отца Орибазия, назначив его епископом язычников. Когда он прибыл на Уртаму, Мемноги приняли его как нельзя лучше, окружили материнской заботой, уважали его, вслушивались в каждое его слово, смотрели ему в глаза, выполняя тотчас же каждое его желание, прямо-таки впивали его поучения — словом, предались ему всей душой. В письмах ко мне он, бедняжка, не мог ими нахвалиться...
Отец доминиканец смахнул рукавом рясы слезу и продолжал:
— В такой приязненной атмосфере отец Орибазий не уставал проповедовать основы веры ни днем, ни ночью. Рассказав Мемногам весь Ветхий и Новый завет, Апокалипсис и Послания Апостолов, он перешел к житиям святых и особенно много пыла вложил в прославление святых мучеников. Бедный... это всегда было его слабостью...
Преодолев волнение, отец Лацимон продолжал другим тоном:
— Он говорил им о святом Иоанне, заслужившем венец, когда его живьем сварили в масле; о святой Агнесе, давшей ради веры отрубить себе голову; о святом Себастиане, пронзенном сотнями стрел и претерпевшем жестокие мучения, за что в раю его встретили ангельским славословием; о святых девственницах, четвертованных, повешенных, колесованных, сожженных на малом огне. Они принимали все эти муки с восторгом, зная, что заслуживают этим место одесную господа бога. Когда он рассказал Мемногам обо всех этих достойных подражания жизнях, они начали переглядываться, и самый старший из них сказал несмело:
— Преславный наш капеллан, проповедник и отче достойный, скажи нам, если только соизволишь снизойти к смиренным твоим слугам, попадает ли в рай душа каждого, кто готов на мученичество?
— Непременно, сын мой, — ответил отец Орибазий.
— Да? Это очень хорошо, — произнес медленно Мемног. — А ты, отче духовный, желаешь ли попасть на небо?
— Это мое пламеннейшее желание, сын мой.
— И святым ты хотел бы стать?
— Сын мой, кто бы не хотел этого? Но куда мне, грешному, до столь высокого чина; чтобы вступить на этот путь, нужно напрячь все силы и стремиться неустанно, со всею покорностью сердца...
— Так ты хотел бы стать святым? — снова переспросил Мемног и поощрительно оглянулся на своих товарищей, которые тем временем поднялись с мест.
— Конечно, сын мой.
— Ну, так мы тебе поможем!
— Каким же образом, милые мои овечки? — спросил, улыбаясь, отец Орибазий, радуясь наивной горячности своей верной паствы.
В ответ Мемноги осторожно, но крепко взяли его под руки и сказали:
— Таким, отче, какому ты сам нас научил.
Затем они сперва содрали ему кожу со спины й намазали это место горячей смолой, как сделал в Ирландии палач со святым Иакинфом, потом отрубили ему левую ногу, как язычники святому Пафнутию, потом распороли ему живот и всунули туда охапку соломы, как блаженной Елизавете Венгерской, после чего посадили его на кол, как святого Гугона, переломали ему все ребра, как сиракузяне святому Генриху Падуанскому, и сожгли медленно, на малом огне, как бургундцы Орлеанскую Деву. После этого отдышались, умылись и начали горько оплакивать своего утраченного пастыря. На этом я их и застал, когда, объезжая все звезды епархии, попал в этот приход. Когда я услышал о происшедшем, волосы у меня встали дыбом, и, ломая руки, я вскричал:
— Негодные бродяги! Ада для вас мало! Знаете ли вы, что навек погубили свои души?
— А как же, — ответили они, всхлипывая, — знаем!
Тот же старый Мемног встал и сказал мне:
— Досточтимый отче, мы хорошо знаем, что обречены гореть и мучиться до скончания веков, и чтобы решиться на свое дело, мы выдержали страшную душевную борьбу; но отец Орибазий неустанно повторял нам, что нет ничего такого, чего добрый христианин не сделал бы для своего ближнего, что нужно отдать ему все и на все быть для него готовым. Поэтому мы покорились, хотя и с великим отчаянием, и думали только о том, чтобы дражайшему нашему отцу Орибазию доставить мученический венец и святость. Не можем тебе сказать, как это нам было трудно, ибо до его прибытия никто из нас и мухи бы не обидел. Не однажды мы просили его, просили на коленях, смилостивиться и смягчить строгость правил веры, но он категорически твердил, что из любви к ближнему нужно делать все без исключения. Тогда мы увидели, что не можем отказать ему. Мы знали при этом, что мы существа ничтожные и вовсе недостойные этого святого мужа и что он заслуживает полного самоотречения с нашей стороны. Мы горячо верим также, что наше дело нам удалось и что отец Орибазий царит теперь в небесах. Вот тебе, досточтимый отче, мешок с деньгами, которые мы собрали на канонизацию: так нужно, ибо отец Орибазий на наши расспросы все объяснил нам подробно. Я должен сказать, что мы применили только самые его любимые пытки, о которых он рассказывал с наибольшим восторгом. Мы думали угодить ему, но он всему противился и особенно не хотел пить кипящий свинец. Мы, однако, не допускали и мысли, чтобы наш пастырь говорил нам одно, а думал другое. Крики, им издаваемые, были только выражением недовольства низменных, телесных частей его естества, и мы не обращали на них внимания, памятуя, что надлежит унижать тело, дабы тем выше вознеслась душа. Желая его ободрить, мы напомнили ему о поучениях, которые он нам читал, но отец Орибазий ответил на это лишь одним словом, вовсе не понятным; мы не знаем, что он означает, ибо не нашли его ни в душеспасительных книгах, которые он нам раздавал, ни в святом писании.
Закончив свой рассказ, отец Лацимон отер крупный пот с чела, и мы долго сидели в молчании, которое он затем прервал словами:
— Ну, скажите теперь сами, каково быть пастырем душ в таких условиях? Или вот эта история! — Отец Лацимон ударил кулаком по письму на столе. — Отец Ипполит сообщает с Арпетузы, с этой маленькой планеты системы Веги, что ее обитатели совершенно перестали заключать браки, рожать детей, и им грозит полное вымирание!
— Почему? — в недоумении спросил я.
— Потому, что едва они услышали, что телесное общение — грех, как тотчас возжаждали спасения, и все дали обет чистоты и держат его! Вот уже две тысячи лет, как мы учим, что спасение души важнее всех мирских дел, но никто ведь не понимал этого буквально, боже мой! А эти Арпетузиане, все до единого, ощутили в себе призвание и толпами вступают в монастыри, образцово выполняют уставы, молятся, постятся и умерщвляют плоть, а тем временем промышленность и земледелие падают, голод угрожает всей планете. Я написал об этом в Рим, но ответ, как всегда, молчание...
— Рискованно было, — заметил я, — идти с проповедью на другие планеты.
— А что нам оставалось делать? Церковь, как известно, не спешит, ибо царство ее не от мира сего, но пока кардинальская коллегия обдумывала и совещалась, на планетах начали, как грибы после дождя, вырастать миссии всяческих сект, и нам приходилось спасать то, что остается. Ну, если уж говорить об этом... Идите за мной.
Отец Лацимон ввел меня в свой кабинет. Одну стену целиком занимала огромная синяя карта звездного неба, вся правая часть которой была заклеена бумагой.
— Вот видите! — указал он на заклеенную часть.
— Что это значит?
— Провал, сын мой. Полный провал. Эти области населены людьми с очень высоким разумом. Они исповедуют материализм, атеизм, прилагают все свои усилия к развитию науки и техники и к улучшению условий жизни на планетах. Мы посылали к ним своих лучших миссионеров, салезианцев, доминиканцев, даже иезуитов, самых сладкоречивых проповедников, и все они, все вернулись атеистами!
Отец Лацимон нервно подошел к столу.
— Был у нас отец Бонифаций, я помню его как одного из самых набожных слуг церкви; дни и ночи он проводил на молитве, лежа крестом; все мирские дела были для него прахом; он не знал лучшего занятия, чем перебирать четки. А после трех недель пребывания там, — отец Лацимон указал на заклеенную часть карты, — он поступил в политехникум и написал вот эту книгу!
Отец Лацимон поднял и с отвращением бросил на стол довольно толстый том. Я прочел заглавие:«О способах повышения безопасности полета на ракетных кораблях».
— Безопасность бренного тела он поставил выше спасения души, это ли не чудовищно? Мы послали тревожный доклад, и на этот раз апостолическая столица не замешкалась. В сотрудничестве со специалистами из американского посольства в Риме Папская академия создала вот эти труды.
Отец Лацимон подошел к большому сундуку и открыл его, внутри было полно толстых томов большого формата.
— Здесь около двухсот томов, где во всех подробностях описаны методы насилия, террора, внушения, шантажа, принуждения, гипноза, отравления, пыток и условных рефлексов, применяемых ими для удушения веры... Волосы у меня встали дыбом, когда я их просматривал. Там есть фотографии, признания, протоколы, вещественные доказательства, свидетельства очевидцев... Голова закружится от мысли, как они все это быстро сделали и что значит американская техника! Потому что, сын мой... действительность гораздо страшнее!
Отец Лацимон подошел ко мне и, горячо дыша прямо в ухо, прошептал:
— Я здесь, на месте, лучше ориентируюсь. Они не мучают, ни к чему не вынуждают, не пытают, не вгоняют винты в голову... они только попросту учат, что такое вселенная, как началась жизнь, как зарождается сознание и как применять науку на пользу людям. У них есть способ, по которому можно доказать, как дважды два четыре, что весь мир исключительно материален. Из всех моих миссионеров сохранил веру только отец Серваций, и то лишь потому, что глух, как пень, и не слышал, что ему говорили. Да, сын мой, это похуже пыток! Была здесь одна монахиня, кармелитка, одухотворенное дитя, предавшееся только небу; она все время постилась, умерщвляла плоть, имела стигматы и видения, беседовала со святыми, особенно любила святую Меланию, которой усердно подражала; мало того, она с часу на час ожидала даже архангела Гавриила... Однажды она отправилась туда, — отец Лацимон указал на правую часть карты. — Я спокойно разрешил ей это, ибо была нищая духом, а таким обещано царствие божие; а как только человек начинает думать, как, что, да почему, тотчас открываются перед ним бездны ереси. Я был уверен, что доводы их мудрости перед нею будут бессильны. Но едва только она туда прибыла, как после первого же публичного видения святых, сопряженного с приступом религиозного экстаза, ее признали невротичкой, или как там это называется, и лечили ее ваннами, работами по саду. Давали какие-то игрушки, какие-то куклы... И через четыре месяца она вернулась, но в каком состоянии!
Отец Лацимон содрогнулся.
— Что с ней случилось? — с жалостью спросил я.
— Она перестала иметь видения, поступила на курсы ракетных пилотов и полетела с исследовательской экспедицией к ядру Галактики, бедное дитя! Недавно я услышал, что ей опять являлась святая Мелания, и сердце у меня задрожало от радостной надежды, но оказалось, что ей попросту приснилась ее тетка. Говорю вам, провал, разруха, упадок! Как наивны эти американские специалисты: присылают мне пять тысяч книг с описанием жестокостей, чинимых врагами веры! О, если бы они захотели преследовать религию, если бы закрывали церкви и мучили верных! Но нет, ничего подобного, они разрешают все: и совершение обрядов и духовное руководство — и только всюду распространяют свой метод и свои теории. Недавно мы попробовали вот это, — указал отец Лацимон на карту, — но безрезультатно.
— Простите, но что вы попробовали?
— Ну, заклеить эту часть космоса бумагой и игнорировать ее существование, но это не помогло. А теперь в Риме говорят о крестовом походе в защиту веры.
— Что вы об этом думаете, отче?
— Конечно, это было бы неплохо, если бы можно было взорвать их планеты, разрушить города, сжечь книги, а их самих исколотить в пух и прах, тогда еще удалось бы отстоять учение о любви к ближнему, но кто в этот поход пойдет? Мемноги? Или, может, Арпетузиане? Смех меня разбирает, а порой и тревога!
Наступило мертвое молчание. Охваченный глубоким сочувствием, я положил руку на плечо изможденному капеллану, чтобы подбодрить его, и тут что-то выскользнуло у меня из рукава, блеснуло и стукнулось об пол. Кто опишет мою радость и изумление, когда я узнал свой ножик! Оказалось, что все это время он преспокойно пролежал за подкладкой моей куртки, провалившись туда сквозь дыру в кармане.