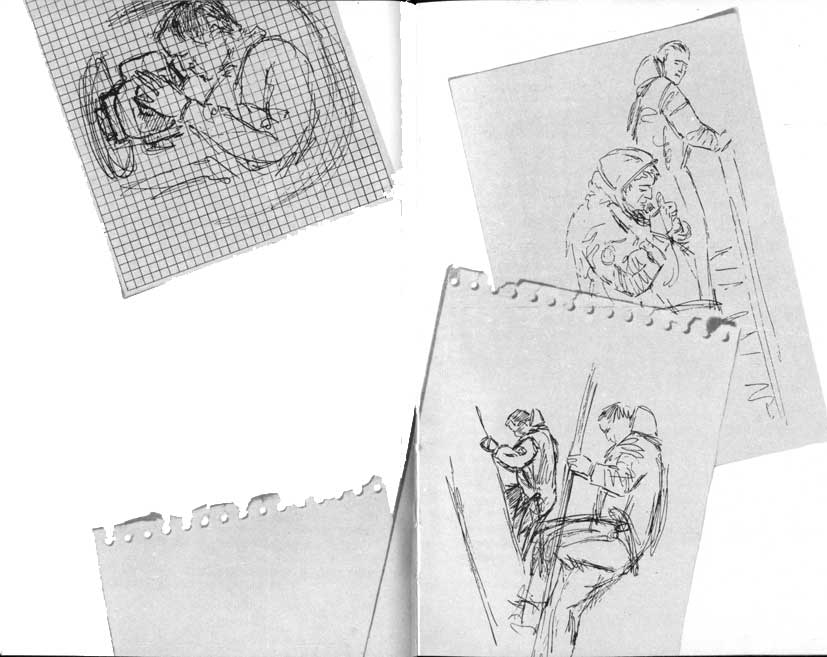Апрель 1961 года
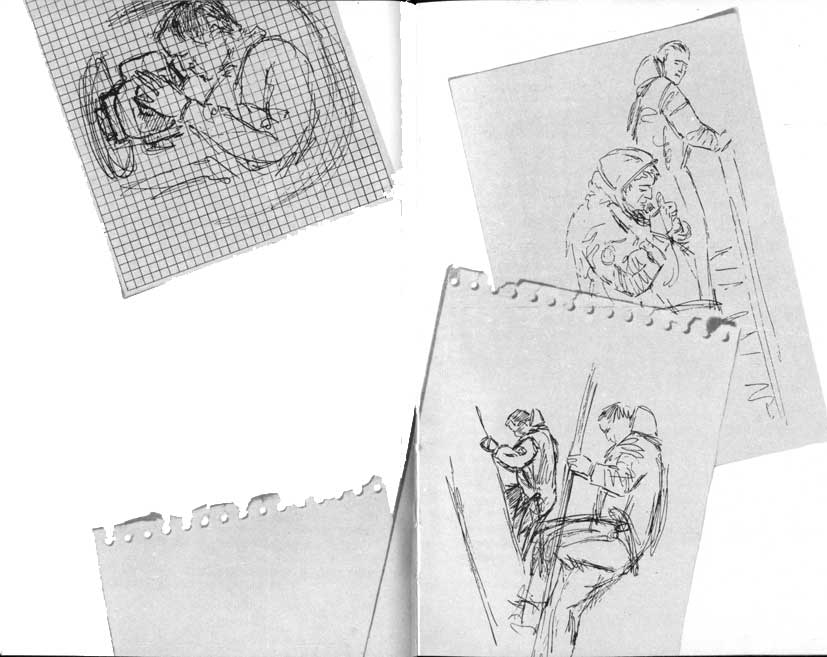
К.ПАУСТОВСКИЙ
Старая рукопись
Так сурово я обошелся с этим рассказом потому, что он показался мне излишне фантастическим и наивным. В нем не было тех твердых признаков действительности, какие придают достоверность любому вымыслу.
Обычно, если не считать нескольких крупных авторов (среди них надо упомянуть Жюля Верна, Герберта Уэллса и нашего писателя Ефремова), фантастика выглядит в книгах топорно и холодновато. Люди играют служебную роль. Они бесцветны, слишком правильны, их внутренний мир очень скуден. Все это скучно и не заражает людей крылатостью, а без нее трудно жить и дышать.
Когда я писал этот рассказ, было время всеобщего, но пока еще умозрительного увлечения межпланетными полетами. Имя Циолковского повторялось все чаще.
Мне случилось в это время попасть в Калугу, и там я увидел на спуске к Оке маленький деревянный дом, где жил Циолковский.
Около дома был сад — очень среднерусский и скромный. В саду вздрагивала от летевшего косого дождя листва лип, а под забором цвела глухая крапива.
Еще недавно тут же, рядом, седой и застенчивый человек размышлял над планами полетов на Марс и Венеру. Свет лампы из окна падал на куст сирени. Человек смотрел на этот куст. Он не мог не видеть его и не мог не думать об этом сыром саде и свернувшихся к вечеру цветах портулака и петунии. Они плотно закрывали свои лица лепестками, как бы страшась холода ночи, боясь взглянуть ей прямо в глаза.
Я сорвал травинку на краю тротуара, протянул ее между пальцами. Она тихонько скрипнула и запахла так, как пахнут по веснам луга. И я подумал, что там, на других планетах, наверное, нет ни таких травинок, ни таких дождевых капель, ни таких запущенных садов.
С тех пор прошло больше десяти лет. В 1961 году первый человек — летчик Гагарин — облетел на космической ракете вокруг Земли. Первые его слова, когда он увидел Землю, с высоты трехсот километров, были очень простые. «Красота-то какая!» — сказал он.
Земля, окруженная черным мировым пространством, сияла под ним огромной синей сферой. Она напоминала полукружие прозрачного сапфира. В тех толщах воздуха, что были освещены боковым солнечным светом, горело радужное сияние.
Цвет воздушного пояса походил на голубизну южных водных пространств. Землю окружало как бы невесомое Средиземное море.
И весь этот праздничный океан света стремительно уносился в мировое пространство, ограждая и спасая Землю от космического холода и мрака.
Я старался представить себя на месте летчика Гагарина. По своему влечению к поэзии я вспомнил слова Фета о бездне мирового эфира, где «каждый луч, плотской и бесплотный, — твой только отблеск, о, солнце мира, и только сон, — только сон мимолетный!», вспомнил его стихи о том, как «на огненных розах живой алтарь мирозданья курится».
Под «огненными розами» поэт подразумевал, конечно, звезды. Несколькими строками выше он сказал о них удивительно точные и какие-то трепетные слова: «на небе, как зов задушевный, сверкают звезд золотые ресницы».
Слова поэта как бы вплотную приближали космос к нашему человеческому, земному восприятию.
Я подумал, что теперь у нас неизбежно возникнет совершенно новая волна ощущений. Раньше в нашем сознании присутствовало загадочное, грозное и торжественное ощущение Галактики, а теперь зарождается новая лирика межзвездных пространств. Первые слова об этом сказал старый поэт, глядя из своего ночного сада на роящееся звездное небо где-то в земной глуши около Курска. А вторые слова сказал летчик, впервые увидев под собой земной шар. Вот этот старый рассказ.
Летчик был оторван от Земли, брошен в мировое пространство, у него было очень мало надежды на возвращение «домой».
«Домом» он называл старую милую Землю. Там набегали прибои, пахло укропом, каменистые дороги блестели от солнца, дети играли в скакалку.
Летчик по временам терял вес. Обморок — он казался хотя и невидимым, но живым существом — прикасался к нему, но летчик отстранял его легкой рукой, и обморок, тоже, должно быть, потерявший вес, останавливался в нерешительности.
Неподвижное пространство стояло за окнами несущейся кабины, как летаргия. Ему не было ни начала, ни конца. Только звезды напряженно пылали сквозь эту непроницаемую ночь мира и напоминали чрезмерно пристальные глаза.
В кабине было тепло, но гибельный космический холод гремел снаружи и сверкал черными изломами, догоняя ракету.
Летчик оцепенел. Он не мог собрать воедино свои разбросанные невесомые мысли. Иногда они метались, как пылинки в солнечном луче.
Летчик думал, что ему было бы легче, если бы он был не один. Нет, пожалуй, было бы страшнее. Он кое-как примирился с мыслью о собственной гибели, но не хотел, чтобы вместе с ним умирал еще другой человек.
Если бы этот человек был вместе с ним в кабине, то летчик, должно быть, больше всего боялся, чтобы второй человек не начал вспоминать, как у него где-нибудь в Ливнах окуривают сады от весенних заморозков. Или внезапно вот здесь, в безнадежности мирового пространства, не полюбил бы милую женщину. Ее он давно забыл. Он не оставил на Земле ни родных, ни друзей. Это обстоятельство он считал самым важным для себя в таком безумно рискованном деле, как полет в космос. Но теперь, головокружительно удаляясь от Земли, он внезапно почувствовал как бы нежность теплой женской ладони на своих губах. И тут же, подобно взрыву, глубоко и стремительно вернулась бы к нему любовь. И он закричал бы от отчаяния и от силы этой возвращенной любви.
«Хорошо, — думал летчик, — что я совершенно один, что во всем этом вечном пространстве я первый». Но, думая так, он обманывал самого себя. Конечно, он погибает, но никто не увидит его смерти, и никто и никогда на столетия вперед не узнает, кого он звал в свое последнее смертное мгновение.
Летчик ждал времени, назначенного для спуска. Еще там, на Земле, срок спуска был рассчитан с точностью до сотой секунды.
Он взглянул на часы и усмехнулся. Абсурд! Часы делят время на равные промежутки, а времени здесь, во Вселенной, не было, нет и не будет. Есть только движение.
Время существует только на Земле. Его выдумали люди, чтобы наглухо заключить в него свою жизнь. Зачем?
— Такой порядок! — беспомощно подумал летчик, но тут же сообразил, что было бы ужасно, если бы, предположим, Шекспир жил бесконечно и писал бы неизмеримое количество своих пьес, одну за другой.
Вообще бессмертие было бы величайшей пыткой и величайшим несчастием для человека. Как же радоваться каждой новой весне, если ты будешь знать, что впереди их — тысячи и миллионы и что каким бы ни был исключительным миг на Земле, он рано или поздно повторится? И не один раз.
Оцепенение нарастало, глушило звуки. Летчику казалось, будто он навсегда освободился от власти Земли, от всех земных законов.
Можно было спокойно уходить в бесконечность Вселенной, закрыв глаза, едва чувствуя скользящее движение ракеты.
Но ракета не бесконечна во времени. Каким-то уголком сознания летчик понимал, что спокойствие — это смерть и что он, человек, так же смертен, как и этот сложнейший металлический снаряд, несущий его в Галактике.
Он заставил себя приоткрыть глаза, снова взглянул на часы, услышал тихие и настойчивые сигналы с Земли, похожие на ворчливое жужжание шмеля, и нажал рычаг торможения. .
Земля начала разгораться, свет Солнца стал ярче. Под кабиной в неизмеримой глубине и мгле пронеслись размытые очертания Африки, похожей на желтоватую наклейку на школьной карте.
Вернулась тяжесть. Летчик испытал ее возвращение, как легкий вздох, как спасение. Он подумал, что если ему суждено погибнуть, то не здесь, в мертвом одиночестве мирового пространства, а на милой Земле. И, может быть, в последнее мгновение он услышит запах развороченной ударом земли — сырой, свежий, похожий на настой ромашки и мяты.
Оцепенение сразу прошло. Земля неслась на него снизу вверх, нарушая все физические законы, неслась в пелене облаков и оловянном блеске морей.
— Кого я встречу первым на Земле? — подумал он и неожиданно для себя запел, хотя хорошо знал, что этого делать нельзя. Он пел первое, что ему пришло в голову:
На старой Калужской дороге, На сорок девятой версте... |
Приземлился он не на старой Калужской дороге, а где-то в горах. Очевидно, он нажал рычаг торможения немного раньше, чем следовало.
Он вышел, тяжело качаясь, из кабины, упал на нагретую солнцем щебенчатую землю и так пролежал без движения несколько часов. Только к концу дня, когда солнце начало клониться к закату, он пошевелился, открыл глаза и прислушался. Ему показалось, что солнечный свет шумит усыпительно и равномерно. Загадочный этот звук заставил его тяжело сесть и осмотреться.
Он лежал в кустах низкорослого цветущего боярышника на склоне горы, падавшей отвесной стеной в море. Оно спокойно несло к подножию этой горы прозрачные волны. Переливы этих волн колебали на листве боярышника слабые отблески. Лазурь простиралась вокруг от земли до зенита — густая и чуть туманная, рожденная великим безветрием южной благословенной страны.
Среди кустов боярышника были разбросаны, как брызги золотой воды, венчики дрока. А над боярышником и дроком просвечивало небо. На нем застыли на той страшной высоте, где он только что был, облака, похожие на розовые перья.
Хотелось пить. Флягу он оставил в кабине.
Где-то далеко, почти на самом краю земли, прокричал петух, а в кустах затрещала, вертясь, какая-то крошечная птица с красным горлом.
Земля! — сказал летчик и погладил листья боярышника. — Скоро вечер. Пожалуй, запоют соловьи.
Земля! — повторил он громче, и тяжелый железный ком подкатился к горлу. Он плакал, не скрываясь. Он плакал и думал, что имеет на это право. Никогда до этих пор он не знал, не видел, не думал, что Земля так трогательна и так нежна.
— За одну минуту... — сказал он медленно и остановился. — За одну минуту жизни на этой Земле я отдам все. За одну минуту!
Голова у него кружилась. В кустарнике что-то мелькнуло — белое и легкое — и он закричал:
— Ко мне!
Он кричал, он звал кого-то, но ему казалось, будто он беспомощно шепчет. Он не слышал собственного голоса. Он не видел, как девочка лет двенадцати — обыкновенная мечтательная девочка, любившая бродить по склонам этой горы и представлять себя Золушкой, изгнанной из дома, — бежала к нему.
Она задыхалась. Она сразу поняла, что это лежит разбившийся летчик. Она плакала и не вытирала слез. Они слетали с ее побледневших щек и брызгали на ее руки и светлое платье. Но после каждой слезы глаза девочки сияли все больше и больше.
Летчик, очнувшись, увидел в этих глазах все, чего только можно ждать хорошего от жизни: лазурь, и блеск, и нежность, и страх за его жизнь, и любовь, такую же робкую, как венчик совершенно крошечного горного цветка, щекотавшего его щеку.
Вы оттуда? — спросила шепотом девочка.
Да. Я оттуда.
Я помогу вам. Пойдемте! — сказала она, все еще плача.
Летчик протянул ей руку. Она взяла ее и вдруг прижалась к ней заплаканными глазами.
— Земля! — сказал летчик, пытаясь подняться. — Ты — земля! Ты — радость!
У него все время кружилась голова.
— Да, да, — торопливо повторяла девочка, не понимая, о чем говорит летчик. — Вы обопритесь на меня. Я сильная.
Летчик взглянул на ее худенькие загорелые руки все в веснушках и ласково потрепал их.
Вот, собственно, и все. Я мог бы кое-что добавить к этому рассказу, но не стоит нарушать старый текст. Да и что я могу добавить? Только свое глубокое, неумирающее, завладевшее мной еще в юности восхищение перед жизнью, перед человеческим мужеством, перед своей страной, перед девической нежностью.
Апрель 1961 года