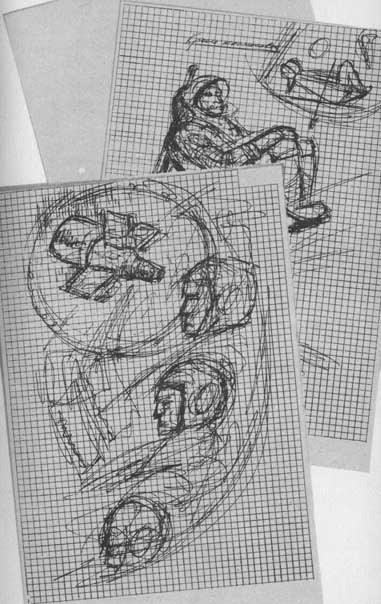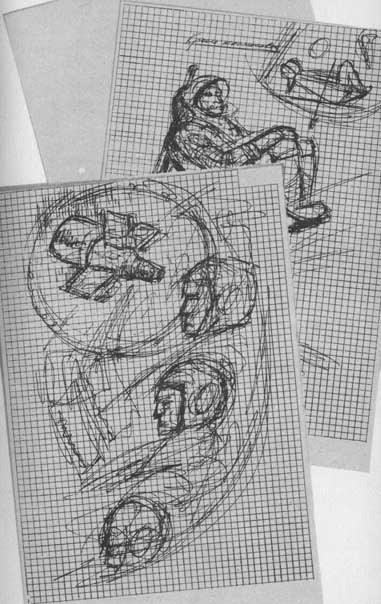
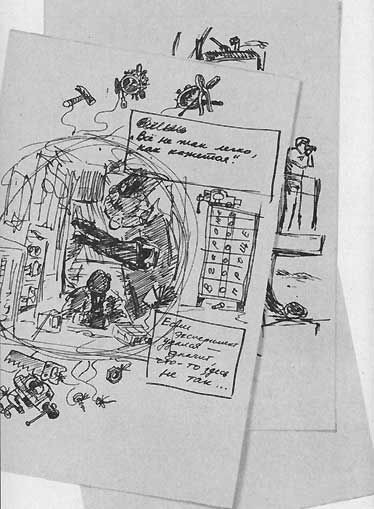
Ю. НАГИБИН
Из «Рассказов о Гагарине»
Ворота в небо
Вот и взята первая высота, имя которой — Саратовский индустриальный техникум. Быть может, это чересчур пышно сказано: высота. Техникум дает всего лишь среднее образование, впрочем, профессию тоже. Ну, скажем, не высота, а ступень. Что же дальше? Можно пойти работать, можно продолжать учебу, теперь уже в институте. Большинство товарищей точно знали свой путь: кто уезжал на Магнитку, кто в Донбасс, кто на Дальний Восток, а иные присмотрели себе место на заводах, где проходили производственную практику: на московском имени Войкова или ленинградском «Вулкане».
Юра Гагарин защитил диплом с отличием, перед ним были открыты все дороги, но когда товарищи спрашивали: «А ты куда?» — он отмалчивался. И не потому, что, подобно былинному витязю на распутье, не знал, куда повернуть коня, а потому, что ощущал мучительную неправду в своем недавно сделанном выборе. А выбрал этот юный металлург не горячий цех, не институт, а Оренбургское летное училище.
Юра знал, что ему не станут чинить препятствий, военлет — профессия благородная, и все же до дня торжественного вручения дипломов об окончании техникума он не подозревал, что у человека может быть так тяжело на душе. Его поздравляли, ему аплодировали, жали руку, желали славного трудового будущего, а он едва удерживал крик в горле: «Остановитесь! Вы ошиблись во мне! Я всех обманул!..»
Да, он всерьез считал себя обманщиком, чуть ли не предателем. Его столько лет учили, кормили, обеспечивали теплым жильем и карманными деньгами, столько сил, терпения, душевной заботы потратили учителя и цеховые мастера, чтобы сделать из него квалифицированного литейщика, и все впустую!..
И тут, как удар под вздох, известие — в Саратов приехал Мастер. Так величали своего наставника, мастера литейного цеха и великого друга учащиеся Люберецкого ремесленного училища. Это он привел их впервые в горячий цех, ожегший робкие души деревенских пареньков испуганным восторгом.
Что привело Мастера в Саратов и как раз в дни выпуска? Среди окончивших было трое его учеников: Чугунов, Петушков, Гагарин. Может, он рассчитывал выбрать среди них наследника, ведь нужно передать кому-то все, что узнал за долгую жизнь о литье — древнейшем занятии людей. И когда Гагарин услышал, что Мастер требует его к себе, то не выдержал и открылся товарищам.
— Плюнь, не ходи! — сказали одни.
Эти не знали Мастера и не слышали о нем.
— Пойди. Чем ты рискуешь? — посоветовали другие.
Эти кое-что слышали о Мастере. А Петушков отрезал жестко:
— Дело совести!
И Чугунов согласно кивнул головой.
Так считал и сам Гагарин. Но, видать, хочется иной раз человеку опереться о чужую совесть. А этого делать не следует, совесть не берут ни взаймы, ни напрокат.
Впоследствии Гагарин говорил, что никогда так не волновался, как перед встречей с Мастером. Впрочем, он вообще волновался редко, иначе не стал бы Космонавтом-1. Гагарин не хотел, чтобы первый же его самостоятельный поступок ударил по старому сердцу человека, который был так добр к нему. Пусть Мастер сам решает, как ему поступить. Тот молча выслушал сбивчивое признание.
— Видать, ты мне очень доверяешь... — сказал он задумчиво.
Гагарин наклонил голову.
— И все-таки думай сам. Еще недавно ты без литья не мог, а сейчас — без полетов. Уж больно ты переменчив.
— Если не летать, то ладно...
— Обижаешь, Юрий! Что значит «ладно»? Для меня моя профессия — вечный праздник, а ты словно о похоронах... Человек должен только свое дело делать, единственное. Как говорится, «рожденный лётать не может ползать».
Чье это? — вскинулся Юра. — Что-то знакомое.
— Стих. Максима Горького. Про буревестника.
Ворота в небо открылись. Хотя мастер слегка перепутал ключи.
В городском саду
По воскресеньям в Оренбургском городском саду была открыта танцевальная площадка. Мощные, с ржавой хрипотцой звуки вальсов, фокстротов и танго валили из черных громкоговорителей, а музыкальной рубкой служила фанерная будочка на задах вечно пустующей, печальной раковины духового оркестра. Пластинки были старые и заигранные: «Дождь идет», «Цыган», «Рио-рита», «Японские фонарики», утесовские «Сердце» и «Марш» из «Веселых ребят», «Уходит вечер», «Дунайские волны», а из новых одна «Голубка», да и то знатоки утверждали, будто и она старая — только раньше носила другое название: «Палома». Но местные девушки охотно ходили на танцплощадку, ибо тон здесь задавали офицеры и курсанты летного училища, народ подтянутый, строгий и знающий обхождение. Пьяницы и хулиганы боялись нос сюда сунуть. Летчики, не прибегая к услугам робкой администрации и милиционеров, расправлялись с ними по-военному четко, быстро и основательно. Да и вообще, порядки на танцплощадке царили строгие. Во время танца запрещалось курить, толкаться, произносить вслух нецензурные слова; полагалось уступать дамам место на скамейке и приглашать к танцам не свистом или пощелком пальцев, а по всем правилам вежливости. Возле площадки продавалось мороженое, морс, ситро, а крепкие напитки были оттеснены к детскому городку. И штатские кавалеры поневоле смирились со строгим этикетом и даже стали находить в нем вкус.
В тот субботний вечер на площадке преобладали пиджаки и кепки, а вооруженные силы были представлены дородным старшиной и застенчивым лейтенантом-артиллеристом. Голубых погонов, а равно золотых с голубой окантовкой что-то не попадалось. Потанцевав раз-другой с какими-то не очень ловкими партнерами, Валя Горячева и ее подруга собрались уходить. Пусть в нашем рассказе сопровождавшая Валю девушка — рослая, крупной кости, с пухлым, ленивым ртом и почти добела обесцвеченными волосами — так и останется Подругой.
Девушки уже собирались домой, когда возле площадки появились два курсанта с сержантскими лычками: высокий и низенький. Девушки сразу заметили их и напустили на себя равнодушно-рассеянный вид. Курсанты в свою очередь обнаружили девушек, и низенький взволнованно сказал:
— Вот она!
— Которая из двух? — обеспокоился высокий. — Блондинка?
— Нет, другая.
— Ну, слава богу! А я уже испугался... До чего же ты все-таки удачливый парень! — сказал он с завистью.
— Это чем же?
— На друзей тебе везет. Эх, мне бы такого покровителя! — голос прозвучал мечтательно.
— Ты, видать, давно не получал?
— Ладно, везун. Сейчас я тебя познакомлю.
Он широко шагнул, преградив дорогу девушкам.
— Здравия желаю! — ловко козырнул, улыбнулся, поймал длинной рукой плечо своего приятеля и вытолкнул вперед. — Прошу любить и жаловать — отличник боевой и политической подготовки, сержант Юрий Гагарин.
Гагарин коснулся пальцами околыша фуражки, пожал вялую руку высокой, не разобрав ее имени, а потом -сухую, крепкую руку девушки, назвавшей себя Валей.
— Ого, какая сильная рука!
— У медработников должны быть сильные руки.
— Вы врач?
— Нет. Учусь в медицинском техникуме.
— Хорош! — послышался возмущенный голос высокого курсанта. — Сам познакомился, а своего друга и благодетеля не подумал представить.
Гагарин понял, что в очередной раз стал жертвой приятельского розыгрыша, но на этот раз не мог сердиться.
— Познакомьтесь, Юрий Дергунов — отличник по всем статьям, только очень застенчивый.
— Оно и видно! — благосклонно уронила Подруга.
А потом все было, как полагается: танцы без устали, мороженое, ситро. Подруге приглянулся ее высокий, ловкий, веселый партнер. К тому же она любила, когда «красиво» ухаживают. Под этим она подразумевала беспрекословное исполнение разных мелких прихотей: еще палочку «эскимо», еще стакан газировки с сиропом, сигарету «Лайка». Естественно, она отдавала предпочтение погонам хотя бы с одной маленькой звездочкой, на сержантские доходы не разгуляешься, но Дергунов был, по всей видимости, переодетым принцем, он безропотно курсировал между площадкой и ларьком.
Валя поначалу тоже была довольна своим сдержанным кавалером. Человек прямой и строгий, она равно не терпела лукавых околичностей и откровенного нахрапа. Конечно, девушка сразу почувствовала, что нравится курсанту, и была благодарна за почтительное поведение. В отличие от большинства сынов воздуха, он не обнаруживал склонности к высоким скоростям и молниеносному маневру.
Ей было покойно и надежно с молчаливым курсантом, но бес, который со времен прародительницы Евы толкает женщин к опасным поступкам, заставил ее полюбопытствовать: — А что вы делаете на улице Чичерина? Я вас там часто вижу.
— Отвечать обязательно? — Гагарин улыбнулся.
— Там ваша милая живет? — с ноткой пробуждающейся ревности спросила Валя.
— Да, — глядя ей прямо в глаза, ответил Гагарин. — Там живет моя милая.
— В каком доме? — упавшим голосом спросила Валя. — Я там всех знаю.
Гагарин назвал.
— Неправда! Вот и неправда! Я сама живу в этом доме!.. — И тут до нее дошло признание Гагарина. Так вот почему она встречала его на своей улице.
Смутная радость этого открытия погасла почти мгновенно. Пусть он сказал правду, пусть она сама вызвала его на откровенность, все равно это отдавало ненавистным нахрапом. Смотри ж ты, на вид скромняга, а сразу берет быка за рога. Она ощущала какую-то несправедливость в своих мыслях, но ничего не могла поделать с собой.
Почувствовав, что Валя сникла, Подруга предложила переменить декорации.
— Мы обе помешаны на кино! — сообщила она.
Курсанты переглянулись, и Дергунов сказал с веселым сожалением:
— Рады бы, да капиталы не позволяют!
— Эх вы, а еще сержанты.
— Живем широко, с настоящим гусарским размахом. По два наследства проели. Судите сами — ежедневно пачка сигарет, Юра, правда, не курит, но не знает удержу по части мороженого. Чуть не каждое воскресенье -кино, газировка опять же...
— Хватит травить-то! — поскучнела Подруга.
— У меня есть деньги, — тихо сказала Валя.
— Брать деньги у женщин! — ужаснулся Дергунов. — Так низко мы еще не пали.
— Нам надо пораньше вернуться в часть, — вмешался Гагарин. — У нас завтра соревнования по баскетболу.
— И вы, конечно, тоже участвуете? — усмехнулась Подруга.
— А как же, он наш капитан! — с гордостью сказал Дергунов.
— Хватит трепаться!.. Подруга властно схватила Валю под руку и повлекла прочь.
— Приходите на стадион! — крикнул Гагарин.
Ему не отозвались.
— Кажется, переборщил ты по части юмора, — сказал он другу.
— Но ведь у нас правда нет денег.
— Можно было как-то иначе сказать... без обиды.
— Тогда возникла бы другая идея. Прогуляться по набережной или посидеть на скамейке в парке. Мое дружеское самопожертвование не заходит так далеко.
— Она тебе не понравилась?
— Блондинка? Она слишком хороша для меня. И не делай мне больно, не говори о ней...
...На другое утро Валя Горячева встала пораньше и побежала к Подруге. Та встретила ее в штыки.
— На стадион?.. Ну можно быть такой наивной! Неужели ты поверила этим трепачам?
— А зачем им было трепаться?
— Чтобы в кино не вести.
— Какая чепуха! Они сразу сказали, что не при деньгах.
— Ладно... Ты видела когда-нибудь баскетбол? Там одни жердилы упражняются. Твоему — самое место!..
Валя никак не думала, что ей может быть так тяжело.
Казалось бы, что тут такого? Малознакомый человек сказал чепуховую неправду. Может, похвастаться хотел, может, скрыть возникшую неловкость. Или просто пошутил, ведь каждому видно, что баскетбол не для него. И стоит ли думать об этом? Кто они друг другу? Встретились-разошлись... Но ведь он приходил на их улицу, она не раз видела его. Растерянная, не понимающая самое себя, Валя почти бежала по пустынным воскресным улицам к стадиону.
Там действительно происходили соревнования по баскетболу между курсантами летного училища и артиллеристами. Большая толпа окружала площадку. Летчики проигрывали, Валя поняла это по крикам болельщиков. Затем она услышала имя Гагарина. И тут же увидела его в высоком прыжке у корзины противника.
— Мне стало очень стыдно и очень радостно, — рассказывала Валентина Ивановна. — Я сразу поверила всему, что он говорил мне, и верила всю жизнь, до последнего дня.
— А он хорошо играл? — спросил я. — Рост не был ему помехой?
— Его выручал прыжок. Он потому и увлекся баскетболом, что у него не было данных для этой игры. Гагарину всегда нужно было что-то преодолевать... Кстати, летчики тогда выиграли. За несколько секунд до конца при ничейном счете они овладели мячом. И тут у артиллеристов нарушение. Штрафной. Курсанты-болельщики дружно ревели: «Откажитесь!» Но Юра, капитан, решил бросать. Вы что-нибудь в баскетболе понимаете?
— Летчикам лучше было держать мяч. Бросок на последних секундах — это слишком ответственно. Тут и у мастеров сдают нервы.
— Но не у будущих космонавтов. Юра примерился, спокойно уложил мяч в корзину, и тут же прозвучал свисток. Там был генерал-артиллерист, он ужасно переживал за своих. «Вот, говорит, чертово везение!» А Юрин начальник поправил его: «Нет, это характер!»
В комнату, дыша мартовским холодом и следя на чистом паркете, ворвались два прекрасных маленьких существа в одинаковых цигейковых шубках и вязаных шапочках — гагаринские дочки.
— Мама, сегодня кино про Виниту!..
Обе похожи на отца, но у старшей это сходство выходит за грань привычного и щемит сердце. Она дарит окружающим не копию, а подлинник отцовской улыбки. Я глядел на Валентину Ивановну, склонившуюся к дочерям, и меня вдруг поразило, что все, о чем я только что услышал, произошло не в давние времена, а всего лишь тринадцать лет назад. Как недолог был срок, в который уместилась вся лучшая жизнь Юрия Гагарина: любовь, женитьба, рождение дочек, служба на Севере, испытания космической учебы, подвиг, всесветная слава, знакомство с миром, широко открывшим объятия гжатскому парню.
Урна с горсткой праха Гагарина замурована в Кремлевской стене. И пусть для миллионов людей Гагарин продолжает жить — его нет, и лучше всех это знает невысокая, стройная женщина, с красивым, нежным и строгим лицом. Судьба была к ней бесконечно щедра и столь же безжалостна. За краткий срок молодости она увидела и небо в алмазах, и бездну небытия, поглотившую самое дорогое. Как выносливо человеческое сердце!
Она живет. Растит дочек, встречается с людьми, отвечает на письма: ей пишут со всего света. В Звездном городке она окружена вниманием и заботой. Но с каким восторгом отдала бы она все это чужое тепло за одно прикосновение того, кто ушел. Особенно трудно бывает иной раз вечерами, когда над Звездным городком распахнуто огромное черное небо в ярких ограненных звездах. Вспоминается так много... Но надо жить. И она живет...
На дальнем Севере под мерзлым курганчиком, в который врос, как впаялся, самолетный пропеллер, лежит смелый пилот и веселый верный друг — Юрий Дергунов.
Вот как распорядилась жизнь с молодыми людьми, встретившимися одним субботним вечером в Оренбургском городском саду.
Звезды
Есть люди, для которых звезды много значат...
«Я подхожу к окошку и вижу, моя милая, и вижу еще сквозь вьющиеся и мчащиеся тучи одинокие звезды вечного неба! Нет, вы не упадете! Предвечный хранит вас и меня в своем сердце. Я вижу звезды Возничего, самого приветливого из всех созвездий»,- писал Вертер в своем последнем письме Лотте, затем прозвучал выстрел.
Вертер — это псевдоним молодого Гете, ему вручены гетевские любовь и мука. Если б Гете не был наделен высочайшим даром сублимации, создающим писателя, он пролил бы кровь, а не чернила, кровь собственного сердца. И его последнее беззвучное рыдание было бы о звездном небе...
Твоих лучей неяркой силою
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я, и над могилою
Гори, сияй, моя звезда,-
молил свою звезду народный поэт.
И не страшась обвинения в плагиате, ибо не со слуха, а из души рождались слова, ему вторил Иван Бунин:
Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
Забытой богом навсегда!
— Юра был странный мальчик, — вспоминает Анна Тимофеевна Гагарина. — Все приставал: «Мама, почему звезды такие красивые?» Пальцы сожмет и так жалобно, будто ему в сердчишке больно: «Ну почему, почему они такие красивые?» Раз, помню, это еще в оккупацию было, я ему сказала: «Народ их божьей росой зовет, или божьими слезками». Он подумал, покачал головой: «Кабы бог был, не было б у нас немцев». Не отдал он богу звезды...
Когда Гагарин, уже сержантом летного училища, приезжал к родителям на побывку, Анна Тимофеевна, проведавшая, что у сына в Оренбурге есть невеста, все расспрашивала его: какая, мол, она, наша будущая сношка?
— Да разве объяснишь? — пожимал плечами сын.
— Уж больно интересно!
— Я же показывал карточку.
— Карточка — что! Мертвая картинка. С личика, конечно, миловидная, а за портретом что? Какая она сутью?
— Я не сумею сказать, — произнес он растерянно.
Разговор шел в звездном шатре августовской ночью. Гагарин поднял голову, и взгляд ему ослепила большая яркая граненая и лучистая звезда.
— Вон, как та звездочка! — воскликнул он радостно.
Мать серьезно, не мигая, поглядела в хрустальный свет звезды.
— Понимаю... Женись, сынок, это очень хорошая девушка...
...Необыкновенный человеческий документ — запись разговора Гагарина с Землей, «Кедра» с «Зарей» во время знаменитого витка. Вся отважная, веселая и глубокая душа Гагарина в этом разговоре. Он был то нежен, то насмешлив, то мальчишески дерзок, когда, узнав голос Леонова, крикнул: «Привет блондину! Пошел дальше!» А как задушевно, как искренне и доверчиво прозвучало это: «В правый иллюминатор сейчас вижу звезду... Ушла звездочка, уходит, уходит!..»
Когда Герман Титов вернулся из своего полета, он сказал Гагарину:
— А ты знаешь, звезды в космосе не мерцают.
Гагарин чуть притуманился.
— Не успел заметить,- ответил со вздохом. — Всего один виток сделал.
— В другой раз приглядись.
— Да уж будь спокоен...
Но не было этого другого раза, а Гагарин сам стал звездочкой, приветливей самых приветливых звезд в созвездии Возничего, на «хранимых предвечным» небесах.
Тост
Свадьбу играли в доме Горячевых. Звучит громко, а состоял этот «дом» из одной-единственной, правда, большой комнаты, где обитала вся Валина семья. Раздвинули обеденный стол, другой у соседей одолжили да еще кухонный приставили, а все равно не хватает мест по числу ожидаемых гостей: многочисленной родни, невестиных подруг, друзей жениха, молодых военлетов. Сняли с петель дверь и положили на козлы, накрыли белой крахмальной скатертью — чем не стол? Только у Дергунова все рюмка падала, его место как раз против дверной ручки пришлось. А может, он нарочно заставлял рюмку падать — для веселья? Было много хороших слов, и тостов, и криков «Горько!», а вершиной праздника явились, конечно, беляши, приготовленные искусными руками Валиного отца, шеф-повара. Но, в общем, застолье получилось нешумное, серьезное, словно бы задумчивое. Это объяснялось и строгим достоинством невесты, и тем, что новоиспеченные лейтенанты еще не привыкли к своим необмявшимся офицерским кителям, и предстоявшей им скорой разлукой — в разные концы земли разлетались старые товарищи, и только что переданным по радио сообщением о полете второго спутника с собакой Лайкой на борту.
Перед беляшами у летчиков произошел даже не совсем уместный на свадьбе спор, кто первым из людей полетит в космос. Большинство сходилось на том, что пошлют какого-нибудь выдающегося ученого, академика.
— Академики все старики, а там нужен молодой, здоровый, — возражал румяный лейтенант Ильин.
— Бывают и академики молодые!..
— Редко и все равно дохляки. Пошлют врача, чтобы проверить, как космос на организм влияет.
— Пошлют подводника! — выпалил Дергунов.
Все засмеялись. Думали, Дергунов по обыкновению «травит». Но он был серьезен.
— У подводников самый приспособленный к перегрузкам организм.
— Пошлют летчика-испытателя! убежденно сказал Гагарин.
— С чего ты взял?..
— Думает, его пошлют!..
— При чем тут я?.. Поймите, человека не пошлют в космос пассажиром, как собачку Лайку. От космонавта потребуется умение водить космический корабль, а это под силу только летчику.
— Твоими бы устами мед пить!..
— Все равно мы устареем к тому времени!..
Тут подоспели беляши, и спор прекратился.
Отгорела, погасла скромная свадьба и снова вспыхнула уже на гжатской земле, в доме Гагариных. Так было решено с самого начала — играть свадьбу дважды. Неуемный во дни былые странник, Алексей Иванович стал неподъемен для больших путешествий, да и не было таких капиталов, чтоб всей семьей катить в далекий Оренбург.
Сердечно приняла Валю новая семья.
— Чтоб у вас радость и горе — все пополам! — сказала Анна Тимофеевна и обняла невестку.
А за праздничным столом разговор опять свернул на космонавтику, хоть присутствовал тут народ сугубо и крепко заземленный.
— Юра, что у вас говорят насчет космоса? — крикнул через стол старший брат Валентин. — Скоро ли человека пошлют?
— Разное говорят. По-моему, скоро.
— О чем вы там? — поинтересовался хозяин стола Алексей Иванович.
— Юрка говорит, скоро человека в космос пошлют.
— Куда? — строго спросил Алексей Иванович.
Слово еще не было на слуху, как сейчас, и потребовал: — Уточни!
— Ну, в мировое пространство... Ближе к звездам...
— Так бы и говорил! — Он серьезно сдвинул лохматые брови. — Очень даже свободно... И главное — найдется такой дурак...
Застолье грохнуло, как духовой оркестр по знаку капельмейстера. Старик Гагарин недоуменно оглядел смеющиеся лица и, чего-то вдруг смутившись, поправился:
— Чудак, говорю, такой найдется...
Но все продолжали смеяться, и громче, веселее всех — Юрий. И почему-то вдруг невесело, почти жутко стало Алексею Ивановичу, будто съежилась в нем душа от грозного предчувствия. Он глядел в лицо сыну, в глаза, в самые зрачки, в них приютилась ночь, не здешняя, не гжатская, не земная — привычная, а страшная ночь чужого, неведомого пространства. Как проникло это ночное в его веселого, радостного сына?..
— Хватит ржать,- сказал он тихо и таким странным голосом, что все разом оборвали смех. — Нам легко тут языки чесать... А каково будет этому... который к звездам?.. Один... Нам с ним, конечно, хлеб-соль не водить, но давайте выпьем за его здоровье...
Гибель Дергунова
Они трудно и хорошо служили у северной нашей границы, где низкие сопки, поросшие соснами-кривулинами, и гладкие валуны, где полгода длится ночь и полгода — день. Небо над этой суровой землей помнило Курзенкова, Хлобыстова, Сафонова — бесстрашных героев минувших битв. Впрочем, небо — великая пустота — ничего не помнило, а вот молодые летчики отлично знали, на чье место пришли.
Они учились летать во тьме полярной ночи, в туманах занимающегося бледного полярного дня, а когда простор налился блеском неподвижного солнца, у них прорезался свой летный почерк.
Впервые об этом сказал вслух скупой на похвалы Вдовин, заместитель командира эскадрильи. Юра Дергунов вел тогда тренировочный бой с кем-то из старших летчиков, проявляя прямо-таки возмутительную непочтительность к опыту и авторитету маститого «противника».
— Неужели это правда Дергунов? — усомнился Алексей Ильин.
— Не узнаете — почерк своего друга? — через плечо спросил Вдовин.
— Ого! У Юрки, оказывается, есть почерк?
— И весьма броский! Смотрите, как вцепился в хвост!.. — Вдовин повернулся к молодым летчикам. — У каждого из вас уже есть свой почерк, может быть, не всегда четкий, уверенный, но есть...
Вот так оно и было. А потом Дергунов приземлился, с довольным хохотком выслушал от товарищей лестные слова Вдовина, пообедал в столовой, со вкусом выкурил сигарету и завел мотоцикл. Ему нужно было в поселок на почту. Алеша Ильин попросил взять его с собой.
Ильин забрался в коляску, Дергунов крутнул рукоятку газа, и, окутавшись синим дымом, мотоцикл вынесся на шоссе.
У Дергунова уже определился броский, элегантный летный почерк, ему не занимать было мужества, находчивости, самообладания, но все его качества пилота и все обаяние веселого, легкого, открытого характера не пригодились в тот миг, когда вылетевший из-за поворота грузовик ударил его в лоб.
Ильину повезло, его выбросило за край шоссе, в мох. Дергунов был убит на месте.
Его похоронили на поселковом кладбище. Мучителен был хрип неловких речей, страшны заплаканные мужские лица. Гагарин молчал и не плакал. Он молчал двое суток, не спал и не ходил на работу. В третью ночь он вдруг заговорил, стоя лицом к темной занавеске на окне и глядя в нее, словно в ночную тьму:
— Это страшно... Он ничего не успел сделать... Ни-че-го!.. Мы все ничего не успели сделать... Нам сейчас нельзя погибать. После нас ничего не останется... Только слабеющая память в самых близких... Так нельзя... Я не могу думать об этом... Дай хоть что-то сделать, хоть самую малость, а тогда бей, костлявая!..
«Это он — смерти!» — догадалась Валя и вспомнила наконец, что она как-никак медицинский работник.
Гагарин бережно взял стакан с успокоительным лекарством, не спеша опорожнил его в раковину и лег спать. Утром он сделал зарядку и пошел на работу...
Вспомнил ли Гагарин о своих словах черным мартовским днем, когда подмосковный лес стремительно придвинулся к потерявшему управление самолету островершками елей? Да, он-то сделал, и не какую-то малость, но было ли ему легче оставлять жизнь, чем безвестному Дергунову? Этого мы никогда не узнаем.
В сурдокамере
Будущий космонавт входит в сурдокамеру, за ним захлопывается тяжелая стальная дверь. Он оказывается словно бы в кабине космического корабля: кресло, пульт управления, телевизионная камера, позволяющая следить за состоянием испытуемого, запас пищи, бортовой журнал. Испытуемый может обратиться к оператору, но он не услышит ответа. В космическом корабле дело обстоит лучше — там связь двусторонняя. На какое время тебя поместили в одиночку — неизвестно. Ты должен терпеть. Ты один, совсем один. У тебя отняты эмоции, все сигналы внешнего мира, ты как бы заключен в самом себе. Тут есть часы, но очень скоро ты утрачиваешь ощущение времени. Это длится долго, будущий космонавт входит в сурдокамеру с атласно выбритыми щеками, выходит с молодой мягкой бородой. Все же, как ни странно, ему кажется, что он пробыл меньше времени, нежели на самом деле.
Главный конструктор Королев придавал колоссальное значение тому, кто первым полетит в космос. Можно предусмотреть все или почти все, но нельзя предусмотреть, что произойдет с человеческой психикой, когда падут привычные барьеры, когда человек впервые выйдет из-под власти земных сил и планета Земля в яви станет одним из малых мирозданий, а не центром Вселенной, когда никем не изведанное одиночество рухнет на душу. Полное одиночество — удел первого космонавта, уже второй космонавт не будет столь одинок, ибо с ним будет первый.
Первому космонавту надо было доказать раз и навсегда всем, всем, всем, что пребывание в космосе посильно человеку.
Естественно, что Королев с особым вниманием следил за испытаниями в сурдокамере, испытаниями на одиночество. Он жадно спрашивал очередного «бородача»:
— О чем вы там думали?
И слышал обычно в ответ:
— Всю свою жизнь перебрал...
Да, долгое одиночество позволяло вдосталь покопаться в прошлом.
А вот испытуемый, чьи показатели оказались самыми высокими, ответил с открытой мальчишеской улыбкой:
— О чем я думал? О будущем, товарищ Главный!
Королев посмотрел в яркие, блестящие глаза, даже на самом дне не замутненные отстоем пережитого страшного одиночества.
— Черт возьми, товарищ Гагарин, вашему будущему можно только позавидовать!
«Да и моему тоже», — подумал Главный конструктор, вдруг уверившийся, что первым полетит этот ладный, радостный человек...
Читателю известно, что Главный не ошибся. Королев безмерно гордился подвигом Гагарина и радовался его успеху куда больше, чем собственному. Удивленный ликованием обычно сдержанного и немногословного Королева, один из его друзей и соратников спросил как-то раз:
— Сергей Палыч, неужели ты считаешь, что другие космонавты справились бы с заданием хуже, чем Гагарин?
— Ничуть! — горячо откликнулся Королев.- Придет время, и каждый из них превзойдет Гагарина. Но никто после полета так не улыбнется человечеству и Вселенной, как Юра Гагарин. А это очень важно, куда важнее, чем мы можем себе представить...
О чем думал герой
После своего исторического полета Юрий Гагарин стал нарасхват. Его хотели видеть все страны и все народы, короли и президенты, люди военных и штатских профессий, самые прославленные и самые безвестные. И Гагарин охотно встречался со всеми желающими, не пренебрегая даже королями, — разве человек виноват, что родился королем? Но охотнее всего шел он к курсантам летных училищ, как бы возвращался в собственную юность, в ее лучшую, золотую пору.
Как-то раз, когда официальная встреча уже закончилась и дружеский разговор перекочевал из торжетвенного зала в чахлый садик на задах летной школы, один из курсантов спросил, заикаясь от волнения:
— Товарищ майор... этого... о чем вы думали... тогда?..
— Когда «тогда»? — спросил с улыбкой Гагарин и по тому, как дружно грохнули окружающие, понял, что задавшему вопрос курсанту в привычку вызывать смех.
Когда-то так же смеялись каждому слову Юры Дергунова — в ожидании шутки, остроумной выходки, розыгрыша, но тут было иное — смех относился к сути курсанта. Гагарин пригляделся к нему внимательней: большое незагорелое лицо, вислый нос, напряженные и какие-то беспомощные глаза, толстые ноги иксом. Да, не Аполлон. И не Цицерон к тому же — вон никак не соберет слова во фразу.
— Ну, в общем... я чего хотел спросить... когда вы по дорожке шли?
Курсанты снова грохнули, но Гагарин остался подчеркнуто серьезен, и смех сразу погас.
— Вы имеете в виду Внуковский аэродром? Рапорт правительству?
— Во... во!.. — обрадовался курсант, достал из кармана мятый носовой платочек с девичьей каемкой и вытер вспотевший лоб.
Теперь уже все были серьезны, и не по добровольному принуждению, а потому, что наивный вопрос курсанта затронул что-то важное в молодых душах. Гагарин шел через аэродром на глазах всего мира, и это было для них кульминацией жизни героя, сказочным триумфом, так редко, увы, выпадающим на долю смертного. О чем же думал герой в это высшее мгновение своей жизни?..
И Гагарин с обычной чуткостью уловил настроение окружающих, значительность их ожидания. Конечно же ребята мечтают о подвигах, о невероятных полетах, о славе и ждут чего-то высокого и одухотворенного. Герой должен был думать о планетарном, вселенском, вечном. Они хотят получить сейчас и Небо, и Звезды, и Человечество, и Эпоху, и все Высшие ценности...
Но Гагарин молчал, и пауза угрожающе затянулась. Он был сейчас очень далеко отсюда, от этого чахлого садика, теплого вечера, юношеских доверчивых лиц, в другом времени и пространстве.
...В тот раз в одиночке сурдокамеры держали не так уж долго, но он чувствовал себя на редкость плохо: болела и кружилась голова, мутило, тело казалось чужим, а ноги ватными. Может, что-то там испортилось, нарушилась подача воздуха?.. Но Королев спрашивает испытуемых о самочувствии, и все, как один, молодцевато отвечают: «Отлично!» — «К выполнению задания готовы?» — «Так точно!» Неужели одному ему так не повезло? «Как самочувствие, товарищ Гагарин?» — «Отличное... — Нет, он не может врать Королеву и без запинки добавляет: — Хотя и не очень». — «К выполнению задания готовы?» — «Сделаю, что могу, но лучше бы в другой раз». И в результате — высшая оценка. То было, оказывается, испытание на честность. Им специально создали тяжелые условия в камерах. Но ведь нельзя считать, что ты сдал испытания на честность раз и навсегда. Всю жизнь человек сдает эти испытания и в большом и в малом. Да и есть ли что малое в державе нравственности?
— Видишь ли, дружок, — сказал Гагарин носатому курсанту, — у меня тогда развязался шнурок на ботинке. И я об одном думал, как бы на него не наступить. Не то, представляешь, какой позор — в космос слетал, а тут на ровном месте растянулся...
...Ночью курсант никак не мог уснуть. Он ворочался на койке, вздыхал, крякал, что-то бормотал.
— Да угомонись ты, черт тебя подери! — не выдержал сосед.
— Слушай, — без обиды сказал курсант и сел на койке. — А ведь я тоже мог бы, как Гагарин...
— Что-о?.. Ты... как Гагарин?..
— А вот и мог бы... думать о шнурке...
Сосед уткнулся носом в подушку, и в темноте казалось, будто он плачет. Но и тут курсант не обиделся, понимая, что по обыкновению не сумел выразить свою справедливую мысль. Он тысячи раз повторял в воображении подвиг Гагарина и твердо знал: если его пошлют в космос, он не оплошает. Не дрогнет. Разве что побледнеет. И даже песню споет в космосе, если надо, хотя ему медведь на ухо наступил. Но когда он пытался представить себя в средоточии мирового внимания, душа в нем сворачивалась, как прокисшее молоко. Он видел себя на космодроме, видел в космическом корабле, но не видел на красной тропочке славы, по которой легко, уверенно, сосредоточенно и радостно прошагал Гагарин. Ведь чтобы идти так на глазах всего света, надо что-то большое нести в себе. А он, курсант, постоянно думал о всякой чепухе: о девушках, футболе, кинофильмах, мелких происшествиях окружающей жизни, несданных зачетах, и где бы стрельнуть сигарету и сапожной ваксой разжиться, и как славно было бы отпустить усы... Такому пустому, нулевому человеку нечего делать в скрещении мировых лучей. И, следуя обратным ходом, он начинал сомневаться в своих возможностях совершить подвиг. А если не будет подвига, то зачем тогда жить?..
Гагарин вернул ему веру в себя. Впервые за много дней курсант засыпал счастливым.
Форель
Маленький дом отдыха, где проводил свой отпуск Юрий Гагарин, находился на берегу светлой горной речки, богатой форелью.
Гагарин, вернувшийся с рыбалки, только что принял душ и побрился. Его влажные волосы были тесно прижаты щеткой к голове, подбородок и щеки чуть приметно голубели от пудры, он был стерильно чист, свеж и печален. Да, печален, это сразу чувствовалось, несмотря на обаятельную гагаринскую улыбку, легко, непроизвольно вспыхивающую на его лице, и дружелюбный блеск глаз. В конце концов, не выдержав натянутости, я спросил напрямик:
— Юрий Алексеевич, что с вами?
— Да ничего...- Гагарин улыбнулся и зачем-то потер ладонью коленную чашечку.
— Вы чем-то расстроены?
— Ну, расстроен — слишком сильно сказано! — возразил Гагарин, и я почувствовал, что ему хочется поделиться каким-то недавним переживанием, оставившим в его душе неприятный след.
Так оно и оказалось. Походив по небольшой светлой гостиной, поглядев в пустое солнечное окно и вздохнув раз-другой, Гагарин остановился передо мной.
— Вы знаете Иванова? — Он назвал другое имя, я не запомнил, да это и не важно.
— Конечно, знаю! Хороший парень!
— И я так считал... Мы вместе на рыбалке были. Черт знает отчего-то ли мне место лучше досталось, то ли просто везение, но я таскал одну за другой, а у Иванова хоть бы поклевка. Мы ловили за старым мостом, там много мелочи, но и крупные форели тоже попадаются. Их видно в воде, стоят у самого дна, напрягаются против течения. Мне стало жалко Иванова, и я предложил поменяться местами. Поменялись, и, как назло, я сразу вот такого зверя вытащил. — Гагарин широко развел руки, подумал и свел их немного ближе, но все равно получалось — будь здоров! — Я, честно говоря, думал, не выведу, удилище пополам согнулось. А хороша — бока серебром блестят, спинка пятнистая!.. У Иванова опять ни черта! Мы снова поменялись местами, и тут он наконец вытащил вполне стоящую форель. Он сразу повеселел, стал хвастаться, что еще обловит меня, и запел: «Первым делом, первым делом самолеты...» Потом крупная форель оборвала у него поводок, и ему пришлось переоборудовать снасть. А когда снова закинул, едва наживка коснулась воды, как сразу клюнуло, он подсек и вытащил маленькую форель. Нас предупредили: меньше тридцати сантиметров не брать, выпускать назад в воду. И специальные линеечки дали, чтобы измерять рыбу, если сомнение явится. У меня глазомер неплохой, я сразу увидел, что эта его форелька сантиметра два до нормы не добирает. Иванов взял линейку и осторожно, чтобы не повредить слизевого покрова, измерил рыбу. Так оно и вышло, как я на глаз определил. Он смочил руку, чтобы снять форель с крючка, но, видать, ему смертельно не хотелось расставаться с добычей. Он глянул на меня этак косо и опять за линейку взялся. Потом вздохнул и еще раз измерил форель. А я про себя подсказываю ему: «Отпусти, отпусти, будь человеком!» Все это вроде бы чепуха: подумаешь, одной форелью больше, одной меньше в речке, но и не чепуха, если хорошенько вдуматься. Из маленьких убийств совести рождается большое зло жизни. Иванов, можно сказать, проходил сейчас испытание на нравственность. В космическом корабле тоже ведь сам-друг обитаешь и опору в собственной душе ищешь. Иванов мучился, и я мучился за него, хотя он не знал этого. В конце концов он еще раз измерил рыбу, чуть наклонив линейку, и получилось, что форель как раз нужной длины. Он принял этот самообман и опустил форель в ведерко. А я подумал, что Иванову не бывать космонавтом...
Друг детства
Он провожал Гагарина в последний путь: крупный, рослый человек с тяжелым подбородком, казавшийся куда старше своих тридцати четырех лет. Они были однолетками с погибшим космонавтом, но в Гагарине не иссякало что-то мальчишеское, а этот номенклатурный человек культивировал в себе солидность и положительность. В траурном кортеже он шел в кругу близких Гагарину людей, по праву шел, ведь они были друзьями детства. Жили по соседству, росли на одной улице, вместе в школу пошли, вместе оккупацию переживали, по освобождении снова за одну парту сели, чтобы обучаться грамоте по «Боевому уставу пехоты», а счету — по патронным гильзам: иных учебных пособий в ту пору не было.
Когда же в памятный день 12 апреля 1961 года Гагарин первым из жителей Земли вырвался в космическое пространство, друг детства не дал закружить себе голову, он сказал жене, отложив газету: «Вот увидишь, это добром не кончится».
Не первый раз произносил он эти слова применительно к Юре Гагарину. Дороги их разошлись рано: не окончив семилетку, Юра уехал в Москву и поступил в ремесленное училище при Люберецком заводе сельхозмашин, а он остался учиться в Гжатске. Он шел спокойным и твердым шагом: десятилетка, технический вуз, недолгая работа в заводском цехе, потом в заводоуправлении, а там — вызов в Москву и постепенное восхождение к руководящим высотам.
Не так шла жизнь Гагарина. Кончил он ремесленное, овладел профессией литейщика-формовщика, пятый разряд получил и вдруг все бросид и уехал в Саратов, в индустриальном техникуме учиться. Сделал диплом, но работать не пошел, а вновь за учебу принялся, только на этот раз никакого отношения к литейному делу не имеющую: стал курсантом Оренбургского военного летного училища. Мало ему земли, в небо потянуло!..
Встретились они в Гжатске, куда Гагарин приехал в отпуск. Друг уже стал инженером, женился. А Гагарин новыми сержантскими лычками щеголял. Горько стало другу за Юрия: кроме зубной щетки да расчески, не было у него ни одной лично ему принадлежащей вещи, все казенное: от кальсон до шинели, от наволочки до полотенца, от сапог до фуражки. Спал Юра на казарменной койке, писал казенными чернилами на казенной бумаге, читал только библиотечные книжки, мылся казенным мылом в солдатской бане и, бывало, не мог повести любимую девушку в кино — не хватало «денежного довольствия».
А потом вроде дела наладились: кончил Юра училище, получил лейтенантские погоны, женился. И снова сам все разрушил. Потянуло его на Север, поближе к белым мишкам. Молодая жена не могла бросить медицинский техникум, но его и это не остановило, умчался в Заполярье на трудную и опасную работу. И снова ему жизнь улыбнулась: жена, кончив техникум, последовала за ним на край света и вскоре родила дочку. Живи и радуйся, так нет же, в который раз Гагарин рушит едва наладившуюся жизнь и уходит на новую учебу. Тогда еще не знали, что это за учеба, думали — переучивается он на летчика-испытателя.
А чему он обучался, узнали в мире 12 апреля 1961 года.
Нет, не завидовал ему друг детства, когда посыпались на гжатского паренька чины и звания, награды и славословия. Не поколебался он в своих жизненных правилах и укрепах. Ослепительная, но случайная, как ему казалось, слава Гагарина даже повысила в нем какое-то горькое самоуважение. Кому небо и звезды, а кому грешная земля, где хватает трудной, черной работы, думал он, взирая на московские крыши из широкого окна своего служебного кабинета. И холодновато мерцала в глубине мыслишка: все равно это добром не кончится.
Жизнь сама решила их негласный спор. Не остепенился Юра, так и не остепенился. Две дочери росли, был он уже в полковничьем звании, без пяти минут генерал, ну, чего его опять в воздух потянуло? Сидел бы себе на земле, так нет!.. И не будет у него старости, не будет тихой гавани, когда, покончив с трудами, человек может спокойно оглянуться на прожитую долгую и полезную жизнь. Слеза застит взор друга детства, а губы чуть слышно шепчут: «Эх, Юрка, Юрка, говорил я, что это добром не кончится!» Ему невдомек, что ничего не кончилось, напротив, начинается — бессмертие.
Фотография
Генерал-полковник поколдовал над сейфом, и тяжелая, толстая дверца распахнулась бесшумно-легко, как если бы обладала невесомостью. Его четкие, короткие движения приобрели такую бережность, словно он хотел пересадить бабочку с цветка на цветок и боялся повредить нежную расцветку крылышек. Он положил передо мной тетрадь, блокнот не блокнот — книжицу в сером переплете. Я раскрыл ее и увидел несколько неровных строчек, написанных шатким почерком. «Вошел в тень Земли...» Сердце во мне забилось — это был бортовой журнал Юрия Гагарина. Генерал-полковник обрушил на стол толстый том — бортовой журнал одного из последних космонавтов со схемами, расчетами, диаграммами, сложнейшей кабалистикой математических символов, цифр. Все правильно: эти бортовые журналы соотносятся между собой, как один-единственный скромный виток вокруг Земли с теми чудесами, что творят сейчас в космосе наши посланцы. Но корявая строчка: «Вошел в тень Земли» — трогает душу куда сильнее, она написана рукой человека, первым преодолевшего власть земного притяжения, первым увидевшего наш дом, нашу планету со стороны. И его подвиг незабываем, невытесним из памяти сердца, как первая любовь.
Генерал-полковник показал мне обгорелые бумажные деньги: десятки, пятерки, трояки — их нашли после катастрофы вместе с именным талоном на обед в куртке Гагарина, повисшей на суку дерева. До того как обнаружили этот талон, теплилась сумасшедшая надежда, что Гагарин катапультировался. И еще остался бумажник, а в нем, в укромном отделении, хранилась крошечная фотографическая карточка, вырезанный из группового снимка кружочек, в котором — мужское лицо. Так снимаются школьники, студенты техникумов и курсанты военных училищ по окончании учебы, служащие в юбилейные даты своего учреждения и почему-то — революционеры-подпольщики в пору нелегальных съездов. Даже себя самого трудно бывает отыскать на подобных снимках — столь мелко изображение. Кого же вырезал так бережно из групповой фотографии Космонавт-1, чье изображение хранил так застенчиво-трогательно в тайнике бумажника? Напряжением глаз, памяти, воображения рождается угадка — это нестарое, сильное, лобасто-челюстное лицо принадлежит недавно умершему Главному конструктору Королеву. Он дал Гагарину крылья, Гагарин облек его мысль в плоть свершения. Вдвоем они сотворили величайшее чудо века. Но внутренняя их связь была еще крепче и значительнее, нежели принято думать. Прекрасная мужская скромность, страшащаяся излишней умильности, не позволила Юрию Гагарину попросить фотографию у старшего мудрого друга, и он вырезал ее ножницами из случайно попавшегося ему группового снимка и всегда носил с собой, возле сердца, и это так хорошо, трогательно, поэтично и многозначительно, что и сказать нельзя!
К Гагарину был прикован взгляд всех современников, ему выпало редчайшее счастье быть любимцем века, на нем, если позволено так выразиться, примирялись все, вне зависимости от социальной веры. На него смотрели с восторгом, удивлением и нежностью темные, светлые, узкие, круглые, раскосые, молодые, старые глаза, но никто не видел его так проницательно, как Королев. Главный конструктор говорил: если Гагарин будет по-настоящему учиться, из него выйдет первоклассный ученый. С его великолепным, ясным и мускулистым мозгом, не замутненным предвзятостью, рутиной и ленью, можно многого добиться в науке.
Бытует такая банальность: Королев и Гагарин — это мозг и рука. О Королеве долгое время никто ничего не знал в широком мире. Уэллсовский Невидимка лишь в смерти вновь обрел зримость. В наш грозный век это участь многих, быть может, лучших людей, они Невидимки вплоть до своего последнего часа. Смерть рассекретила Королева, и теперь мы знаем, что он был не только Человеком мысли, но и Человеком действия, волевым, смелым и вместе — расчетливым и непреклонным в достижении поставленных целей. И мозг и рука. Прощаясь с Гагариным, мы провожали в последний путь не только Героя, Человека действия, бесстрашного исполнителя чужого замысла, но и — как некогда сказали о Пушкине — «умнейшего мужа России»...
В те последние мгновения
Никто не знает до конца, как погиб Юрий Гагарин, а вот житель деревни Еремино, глядевший с края Московской области через озеро Дубовое на Рязанщину, Иван Николаевич Чубарин все знает. Вернее, он убежден, что знает все, и этой своей убежденностью заражает собеседника.
Сам он человек далекий от авиации, всю сознательную жизнь проработал на шатурском торфе в негромких должностях, а под старость, выйдя на пенсию, вернулся в родную деревню, где ему досталась от умершего брата хорошая, крепкая изба. Наследницей являлась единственная дочь покойного, племянница Ивана Николаевича Настя, работающая официанткой в столовой космонавтов. Она уступила безвозмездно избу своему вдовому, одинокому дяде, поскольку имеет жилье в городе и менять профессию не собирается, а официантки в деревне не нужны.
Если исключить полковника Серегина, то она была последним человеком, видевшим Юрия Гагарина и
разговаривавшим с ним, и, надо полагать, некоторые сведения Ивана Николаевича почерпнуты у Насти.
...Гагарин и Серегин в летных комбинезонах шли вразвалочку к самолету, когда их окликнул запыхавшийся голос. Девушка-официантка в белом фартучке и крахмальной наколке, напоминающей маленькую корону, подбежала к ним, держа в руке голубой билетик.
— Юрий Алексеевич, вы талон на обед забыли!
Было ясное, очень синее мартовское утро, но чистый воздух нес в себе студь нерастаявшего снега, и вороны, оравшие над мохнатыми кулями гнезд, проклинали себя за то, что слишком поспешили к северу из своей теплыни.
— Простудитесь, разве так можно? — укорил девушку Гагарин.
— Да что вы, Юрий Алексеевич, какие пустяки!
— А талон-то ведь именной!.. — радостно и серьезно сказала Настя.
Гагарин взял голубой билетик, на котором было написано: «Гагарин Ю. А.». Он понимал, что девушке этот клочок бумаги казался чуть ли не секретным документом.
— Предусмотрительно! — улыбнулся Гагарин. — А то, не ровен час, диверсант какой к нашему котлу подберется.
Девушка засмеялась. Гагарин с удовольствием смотрел на ее доверчивое лицо, живые глаза и добрый, веселый рот.
— Ну, а обед-то хоть стоящий? Беляши будут?
— Я скажу шеф-повару. Для вас все сделает!
— Ну, тогда мы по-быстрому обернемся. Только уговор --- двойная порция.
— А вы осилите?
— Спросите моего тестя, какой я едок. Он повар в отставке и величайший специалист по беляшам.
— Будет сделано, товарищ полковник!
Гагарин нагнал чуть ушедшего вперед Серегина, и девушка услышала, как тот сказал:
— Еще одна нечаянная победа?
И почему-то ей стало грустно. Она стояла на краю аэродромного поля и видела, как летчики забрались в самолет, как он взлетел и стал светлой точкой в небе, а там и вовсе скрылся.
То, что затем произошло, ведомо лишь Настиному дяде Ивану Николаевичу.
— ... Они отлетались и уже шли на посадку, когда им в мотор попало иногороднее тело...
— Инородное, — поправил я.
— Ежели ты лучше моего сведом, как все было, так и рассказывай, а я послушаю. Или молчи и не перебивай. Какое еще инородное тело? Летающая тарелочка, что ли? Так это научно не доказанный факт. Может, никаких летающих тарелочек и в заводе нету. А иногороднее тело — пузырь, каким погоду измеряют. Он где-то оборвался, ветром его принесло и в мотор засосало. Самолет сразу клюнул и стал высоту терять, а внизу лес. Серегин, он за командира был, говорит в шлемный телефон:
— Приготовиться сигать с парашютом!
— Ты не думай, что это обычный зонтик, это цельная катапульта, она пилота вместе с сиденьем выбрасывает. Нажал кнопку, а пружина тебе под зад как даст, и ты, можно сказать, со всем удобством покидаешь гибнущий самолет. Товарищ Гагарин Юрий Алексеевич, конечно, отвечает, как положено по военной краткости:
— Есть приготовиться!
Серегин дает другую команду: «Пошел!» — и тут у него заедает механизм катапульты. Кнопка вроде утопляется, а полезного действия нету. И понимает командир корабля, товарищ полковник Серегин, что ему не спастись, потому что уже близки островершки елок. И еще он видит, что Юрий Гагарин сидит на своем месте и палец на кнопке держит.
— Почему, — говорит, — не выполняешь приказа?
А Юра ему:
— Приказ для нас обоих, один я не буду...
— Оставить разговорчики! Я твой командир и приказываю...
— Нет, товарищ командир, только с вами вместе!
Иван Николаевич моргает, сморкается, и, жалея его, я говорю:
— Иван Николаевич, дорогой, там все решается в доли секунды. Разве могли они такой долгий разговор вести?
— Городской, образованный человек, а не знаешь, что там все на других скоростях происходит! Там и кровь быстрее по жилкам бегает, и голова быстрее соображает. Они ведь не треплют языком, как мы с тобой, а посылают быструю мысль прямо в шлемный телефон. У них все по реактивным скоростям рассчитано...
Иван Николаевич справедливо укорил меня в невежестве, мне никогда бы не додуматься до такого своеобразного поворота теории относительности. Но до его высокой веры я сумел подняться. Теперь во мне уже не вызывали сомнения долгие уговоры Серегина, объяснявшего Гагарину, что тот не имеет права жертвовать собой, потому что он принадлежит не себе, а всей нашей планете и всему, что вокруг планеты. И если к нам прилетят люди с далеких звезд, то они очень строго спросят с землян за Гагарина, сделавшего первый шаг навстречу звездам. И еще Серегин говорил, что без Юры осиротеют все дети и как им объяснить, почему не уберегли Гагарина. Но Юра на все отвечал, что спастись они могут только вдвоем, а для одного себя он спасения не хочет. Серегин еще что-то говорил, видимо, приводил последние доводы, но я уже не узнал, какие, потому что голос Ивана Николаевича, давно спотыкавшийся, вовсе оборвался.
Он вытирал старое, изжитое лицо свое большими бурыми ладонями, а я удивлялся, почему мне все это знакомо, разве было у меня сходное наблюдение? А потом вспомнил, что так рассказывал бунинский Сверчок о замерзшем у него на руках, в метель, сыне, «дорогом Максиме Ильиче», и тут я понял, что этот старый одинокий человек говорит тоже о сыне, и что всякий раз, рассказывая эту вовсе не придуманную историю, он прощается со своим прекрасным, знаменитым, так несправедливо рано ушедшим сыном...
День с Германом Титовым,
или Еще раз об улыбке Гагарина
Герман Степанович Титов — один из самых ярких людей, с какими сводила меня щедрая жизнь. Бывают же такие счастливо одаренные натуры! Блестящий летчик и спортсмен, он пишет стихи и прозу, выразительно декламирует, прекрасно разбирается в музыке, сам поет и заразительно лихо пляшет. При этом он всегда заряжен на размышление, на умственный обмен, и просто удивительно, как легко переходит из одного состояния в другое: от безудержного веселья к серьезности принципиального спора, от крепкой шутки к грусти воспоминаний. В книге Ю. Гагарина и В. Лебедева «Психология и космос» сказано, что Титов — холерик. Насколько я понимаю, высокая душевная подвижность и способность мгновенно воспламеняться лежат в существе этого темперамента. Кстати, сам Гагарин — типичный сангвиник.
Я провел с Титовым какой-то непомерный день. Время — величина непостоянная, может растягиваться и сжиматься в зависимости от наполнения. Я не заметил тогда, как промелькнул хмурый мартовский денек в Звездном городке, а сейчас мне не верится, что все, бывшее там, и впрямь уместилось в одном дне. Честное слово, я прожил долгую жизнь в нарядной, красивой, какой-то стерильной квартире Германа Степановича, где друзья-космонавты, щадя труд его чистюли жены Тамары, оставляют ботинки и сапоги в прихожей и ступают в шерстяных вязаных носках на светлый, натертый до зеркальной гладкости дубовый паркет.
Приехал я к Титову в связи с предполагавшейся постановкой большого художественного фильма о Юрии Гагарине. Эту дерзкую мысль вынашивала киностудия имени Горького, а мне предстояло писать сценарий.
— Что вас интересует? — спросил Титов.
— Все, — ответил я.
— Ну, если все, так слушайте, — и неожиданно включил магнитофон.
Вначале было лишь смутное бурление сильных мужских голосов, затем шум примолк, и кто-то звонко, рублено произнес тост расставания с хозяином дома.
— Это мне проводы вчера устроили,- пояснил Герман Степанович. — Николаев получил назначение на место Гагарина, а я на место Андрияна.- Он коротко усмехнулся.- Продвигаемся по службе помаленьку... Мы весь наш мальчишник на пленку записали. Под старость будет что вспомнить.
Я с огромным интересом прослушал эту запись сдержанного мужского веселья с хорошими песнями и каблучной дробью, с добрыми шутками и розыгрышами, с тем подчеркнутым молодечеством, что должно прикрыть грусть неизбежную, когда нарушаются привычные связи... Как я понял, забегал на огонек Алексей Леонов, самый веселый из звездных братьев, остальные же гости принадлежали к числу «нелетавших космонавтов». И сквозь шум застолья, музыку и песни, шутки и подначки порой прорывалась чья-то тоска о полете в неведомое — когда же придет долгожданный день?..
— Мой корабль уже строится!..
— Сказал тоже! Хорошо, если в проекте. Вот мой скоро стартует!..
Но это особая тема, за которую я не решаюсь браться...
А потом Титов читал мне свои записные книжки. Большинство записей касалось, естественно, космонавтики, но были и сжатые, острые характеристики разных людей и событий, оценки прочитанных книг, увиденных фильмов и спектаклей, отзывы на явления международной жизни. Особенно интересны записи, посвященные Гагарину. Едва ли где найдешь такую широкую и многогранную характеристику Космонавта-1, как у Германа Титова. Он открыл мне глаза на громадную общественную деятельность Гагарина. Каюсь, я воспринимал его бесчисленные поездки по белу свету как затянувшееся праздничное турне. Всем хотелось взглянуть на человека, первым вырвавшегося в мировое пространство, и Юрий Гагарин с присущим ему добродушием давал полюбоваться на себя. Какая чепуха! Ему не путешествовать, а летать хотелось, осваивать новую технику, двигаться дальше в своей трудной профессии, не терпящей остановки, застоя. Но он знал, как веско сейчас его слово, как верят ему люди, а в мире столько жгучих проблем, столько розни, жестоких противоречий, и надо делать все возможное для человеческого объединения.
Как хорошо пишет Титов о погибшем товарище! Ни тени панибратства, той дружеской развязности, на которую он, казалось бы, имел право. Он даже называет его по имени-отчеству, и это в интимных, не предназначенных для публикации записях. Необыкновенное достоинство, высота тона, глубокое уважение, сквозь которое едва уловимо, как запах осени в августовский разгар лета, проникает печаль вечной разлуки.
В утро полета они проснулись бок о бок в общем номере гостиницы космонавтов, минута в минуту открыли глаза, приподнялись, повернулись и столкнулись взглядом. Уловив марионеточную синхронность их движений, Титов со смехом сказал:
— Мы с тобой как чечеточники братья Гусаковы.
Эта синхронность оборвалась лишь на космодроме Байконур, куда они прибыли в полном облачении космонавта. Гагарин летел, а Титов оставался.
— Тебя берегут для большего, — сказал Гагарин, прощаясь с другом. — Второй полет будет куда сложнее.
Это было сказано от доброго сердца. Гагарин не знал, насколько точно угодил в цель. Титов стал Космонавтом-2, но он оказался первым, ощутившим в полной мере космические перегрузки. За один виток Гагарин не мог их почувствовать.
Финал нашей встречи оказался обескураживающим для меня как сценариста. Я спросил, будет ли Герман Степанович поддерживать нашу картину.
— Вам откуда-то известна фраза Королева об улыбке Гагарина: мол, слетал бы не хуже и другой космонавт, но поди улыбнись так миру и людям, как это сделал Гагарин. Шутка? Нет, это очень серьезно. Не надо понимать слова Королева буквально, хотя никто не может поспорить в улыбке с Гагариным. Разве только Джоконда. Но Мона Лиза улыбается таинственно, из мглы женской души, а он открыто, весело, нежно — нельзя не откликнуться. И весь мир — от мала до велика — улыбался в ответ Гагарину. Вы не хуже моего знаете, как искажает наш облик буржуазная пропаганда. И вот на обозрение всему свету вышел молодой советский человек из самой гущи народной, выращенный и сформированный нашим строем, нашей идеологией, и оказалось, что он прекрасен. И не нужно было никаких доказательств, все решила улыбка. В ней открылась миру наша душа, и мир был покорен. А когда улыбка Гагарина погасла, то плакали все: и бедные и богатые, и верующие и неверующие, и белые и черные. Вы хотите сделать художественный фильм о Гагарине. Честь и хвала вашей отваге. Но понимаете ли вы, что люди слишком хорошо помнят Гагарина, несут его в себе, и если актер, предназначенный на его роль, уступит ему в обаянии, не сможет улыбнуться по-гагарински, то ваш фильм и полушки не будет стоить! Потому что принесет не выигрыш, а ущерб. И уж лучше сделать большой, обстоятельный документальный фильм, где Гагарина будет «играть» он сам. Поймите, я вам друг, но только при одном условии, если найдут улыбку Гагарина. Иначе не только я, но и все мои товарищи космонавты будут против.
Художественный фильм о Юрии Гагарине, охватывающий всю его короткую и необыкновенную жизнь, так и не был запущен в производство. У нас много талантливых актеров, но нет гагаринской улыбки.
И все же фильм о Гагарине поставлен. О его детских годах. Нет, мы так и не нашли актера, да в том и не было нужды. Нашелся мальчик, московский школьник, с гагаринской улыбкой глаз и губ...